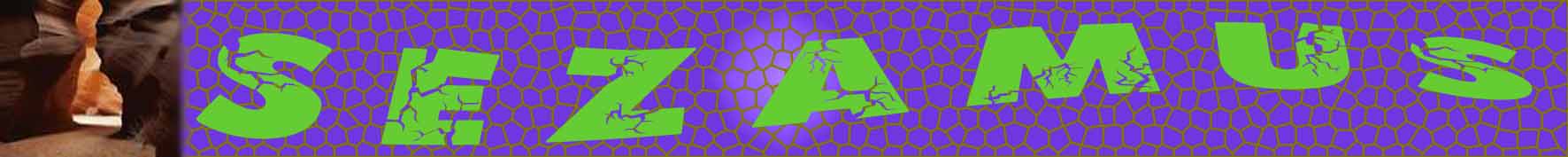|
| |

Богатырь
Добрыня Никитич
|
|
|
 |
Разумный да удалый Добрыня Никитич три года в Киеве стольничал, еще три
года Добрыня чашничал, потом три года у ворот богатырь на часах стоял. И
всего он стольничал-чашничал целых девять лет. На десятый пошел гулять
Добрыня, ибо скучно ему было в хоромах сидеть, тесно казалось душе широкой.
А гулять он ходил по Киеву. Большой город первый из городов русских. Много
народу на улицах и площадях, много дива всякого расскажут, не меньше и
покажут дива из стран заморских товаров навезут. Из моря Белого купцы
приедут, соленой рыбы в бочках доставят, из моря Черного поднимутся купцы,
привезут амфоры с винами греческими, из Красного моря кораллы-жемчуга, а
из-за Мраморного моря ткани шелковые, да цепочки золотые, да прозрачные
стеклышки... Так и получается: по улице киевской туда-сюда пройдешься будто
весь мир увидишь. И не нужно ездить никуда. Мир сходится на горах киевских,
а в позолоте русских куполов все страны отражаются!
В киевской земле все спокойно было. Явных недругов поизвели богатыри, а
недруги тайные тихо сидели – к вежам порубежным за тридцать верст не
подходили. Вот и гулял Добрыня, пока у князя Владимира для него дела
геройского не находилось. Захаживал в лавки богатырь, чудные товары
разглядывал, о странах далеких, о Вавилонах, Египтах, о таинственных
Палестинах торговцев расспрашивал. Бывало винцом у них угощался, и сам их
вином угощал. Время нескучно летело.
Вечерами говорила Добрыне матушка:
Ты б, Добрыня, каким делом занялся. Не ходил бы по городу праздно. А особо
не ходил бы ты по неспокойной улице Игнатьевской, по темным переулкам по
Маринкиным. Знаешь ведь, там Маринка живет злая колдунья, блудница, добрым
людям вредительница, коварная потравница.
Соглашался Добрыня:
Хорошо, матушка, не буду по неспокойной улице ходить. И не буду хаживать по
переулкам темным.
Еще так говорила Амельфа Тимофеевна:
Слышала я, будто та Маринка-потравница девятерых добрых молодцев отравила.
Заколдовала их и неизвестно в кого превратила. А тебя, Добрыня, десятым
отравит, не задумается... Видела я ту Маринку однажды. Похоже на правду, что
о ней говорят. Злое дело для нее дело привычное. Это написано у нее на лице.
Ох, коварна Маринка!
Кивал Добрыня Никитич:
Хорошо, матушка... Не посмотрю на ту Маринку, даже если на улице с ней
встречусь. Разве что глаза в глаза столкнусь!.. Но неужто и впрямь так
опасна Маринка, неужто от взгляда ее окаменеет Добрыня? Не Горгона же всего
лишь Маринка-ненавистница!
Тревожно качала головой матушка:
Вчера я видела ворону на нашей крыше. Каркала ворона, крыльями хлопала,
глазами черными косилась на меня. Не случиться бы беде, не быть бы в доме
покойнику!.. О, Господи! Что я говорю!..
И поспешно крестилась матушка, глядя на образа.
Добрыня Никитич тоже крестился – богатырь знаменитый, христианин
богобоязненный. Однако не послушался матушки Добрыня. Ему ли, витязю
могучему, свершившему подвигов сорок сороков, бояться какой-то колдовки? Ему
ли темные переулки стороной обходить? Наоборот, любопытно стало Добрыне
Никитичу взглянуть хоть разок на Маринку-потравницу ту, которой избегали
честные люди, при виде которой крестились, которой дорогу боялись перейти,
на след которой наступить страшились.
Ах, будь ты проклята, Маринка, черная душа!..
Добрыня в горнице посидел, пораздумал и на улицу пошел да прямиком – на
Игнатьевскую, в самый темный страшный переулок, где по слухам ворожеи жили и
колдовки и всякая водилась нечистая сила. Здесь они как будто в птиц
обращались, голубей и голубок, меж собой миловались, а как надоедало,
превращались в ворон далеко разлетались, к добрым людям садились на крыши,
зло вещали, обещали лихие беды, невзгоды пророчили. Так они, подлые,
веселились.
Прежде никогда не бывал на этой улице Добрыня. Терема здесь стояли огромные,
из дуба и камня, с окошками широкими, с крашеными наличниками-ставенками.
Каждый дом был как крепость. А самый лучший Маринкин дом. Дворец из дворцов,
наподобие княжеского! За забором высоким, за воротами дубовыми, в три яруса
дом колдуньи-потравницы возвышался. Тут и там резьба: козлятушки каменные в
углы заложены, свинки деревянные железную кровлю подпирают. А в наличниках
каменья драгоценные горят... Богато жила Маринка! Только не было во дворе ее
сада. У всех был, а у потравницы Маринки нет. И где был сад Маринкин, про то
никто не знал.
Раз-другой обошел кругом Добрыня Никитич этот необычный дом. Никого не
встретил: не ходили люди по этой улице. И хозяев не видел. Любопытствовал,
на носки привставал, в окна заглянуть пытался. Да где там! Высоко были окна,
не достать.
Прислушивался, хозяев никого не слышал... Вдруг увидел Добрыня на коньке
крыши двух голубей. Но какие-то странные это были голуби. А в чем странность
их, так и не понял Добрыня вроде голуби, а вроде и нет. Сидят те голуби друг
к другу щечками и целуются клювик к клювику. Целуются и на Добрыню искоса
поглядывают. Крыльями сизыми обнимаются ну, как люди руками. Может, и
странность этих голубей была в том, что очень уж на людей они были похожи.
Неладное Добрыня заподозрил: не иначе на крыше той злой колдун с колдовкой
милуются, не иначе на Добрыню ворожат, зло насылают – вон как его
оглядывают!.. Разгорелось ретивое сердце. Выхватил Добрыня Никитич лук из-за
спины, вытащил из колчана стрелу каленую и в тех сизых голубей, колдунов
оборотных, злонамеренных, выстрелил.
Наш Добрыня в жизни не промахивался! А тут, словно нечистая сила наворожила,
на сухом ровном месте поскользнулся лучший на Руси стрелок; оттого рука его
дрогнула, и стрела мимо голубей пролетела, высоко в небо ушла. Но, когда
возвращалась, угодила к Маринке в красивое окно. Перекладинку серебряную
вышибла стрела, околенку стекольчатую разбила и исчезла в глубине хором.
Рев ужасный, рев звериный в тот же миг в доме раздался. Не по себе стало
Добрыне: делов натворил нечаянно, зацепил кого-то стрелой. Оказалось, не
зацепил, а убил насмерть милого друга Маринкиного рыжеволосого Тугарина
Змеевича. Как раз на ложе широком возлежали Тугарин с Маринкою, когда
влетела в окошко стрела. И попала она Тугарину в горло, и захлебнулся подлый
Тугарин собственной кровью.
Взбешенная вскочила Маринка, выглянула в оконце. Видит, добрый молодец
стоит, с улицы дом разглядывает, лук разрывчатый в руках держит.
Глаза у Маринки люто сверкнули, узнала Добрыню. Шепнула себе потравница:
Вот удача! Давно тебя жду! Радуйся, мой сад!..
В сарафан нарядилась, вышивной передник пояском подвязала и побежала дверь
открывать.
А Добрыня Никитич тем временем стоял у ворот, ошеломленный такой
неожиданностью: это же надо! промахнулся!.. Кабы выпил вина полтора ведра,
кабы от недуга рука дрожала или слезился глаз – тогда понятно... Ясное дело:
вмешалась нечистая сила. Стоял теперь и думал Добрыня: "В терем идти голова
пропадет; а если не идти стрела пропадет; жалко – стрела-то хорошая". Но
потом иначе подумал богатырь: "Если пойду в терем, еще не известно, пропадет
ли моя голова. А ежели в терем не пойду, то уж стрела пропадет точно!
Значит, надо идти, пришло время посмотреть на Маринку".
Глядь, а тут и дверь услужливо открылась, будто двери этой все мысли
Добрынины были известны.
Ах, будь ты проклята, Маринка, черная душа!..
Сомненьями и опасеньями не терзаясь, вошел Добрыня в дом. Богат терем,
роскошны в нем горницы, светлы. Поискал глазами образа, не нашел; так
перекрестился. И посмеялся над собой: каков простак – у ведьмачки в доме
принялся Бога искать; здесь серой должно пахнуть, а не ладаном.
С любопытством огляделся Добрыня, не увидел хозяйки. А она между тем у него
за спиной стояла и плечами его широкими любовалась да все пришептывала:
"Радуйся, мой сад!"
В горницу не поклонясь, сел Добрыня Никитич на широкую лавку, тут и увидел
Маринку: она из верхней светелки, из уютной спаленки по лестнице спускалась.
А кто ж это рядом сидел? Посмотрел Добрыня: да, это Маринка сидела. И за
занавеской стояла она, в окошко на улицу смотрела... грустно смотрела...
весело смотрела... нет, не понять!
Промолчал Добрыня, ибо нечего ему было блуднице-потравнице сказать ни Христа
поминать, ни желать здравствовать. И она молчала, холодный огонек в глазах
горел. Любовалась могучими Добрыниными руками. Губы беззвучно шевелились:
"Радуйся, мой сад!"
Посматривал на Маринку Добрыня. Не мог не признать: красивая она женщина.
Пожалуй, даже велика ее красота была. Но была ее красота какая-то
сатанинская. Волосы черные, как вороново крыло, и до пят; глаза синие,
яркие, пронзительные; лицо белое, как молоко, губы красные кораллы даже в
темноте увидишь их, увидишь, как они шевелятся, что-то нашептывают, тебя
завлекают, и пойдешь за ними. О, через красоту эту бесовскую многих Маринка
витязей сгубила!..
Да, холодной представлялась Добрыне красота Маринкина. Глыба льда тоже
красива, когда светит на нее солнце. И злая была эта красота, будто острый
нож. Не верил Добрыня ласковым взглядам колдовки-потравницы; видел, лежит в
углу, заваленный тряпками, милый ее дружок Тугарин Змеевич лежит
бездыханный, кровью истекает. Отчего же Маринке быть с Добрыней ласковой?
Так до вечера и просидели, друг на друга смотрели, но и слова друг другу не
сказали.
Вздохнул, поднялся, Добрыня Никитич, к Тугарину подошел, разбросал тряпки
окровавленные, выдернул стрелу и отправился домой, дверью хлопнул.
А Маринка живо с лавки соскочила, с лесенки сбежала, вышла из-за занавески,
отыскала нож булатный. Села на пол, к следам Добрыни присмотрелась и по
одному срезать стала эти богатырские следочки. Срезала колдовка да тайный
приговор приговаривала:
Как крестьянка режет в поле колоски, чтобы год быть сытой, так я следочки
доброго молодца режу, чтобы силушкой его насыщаться. Один следочек срежу год
не горюю, два следочка срежу два года веселюсь, три следочка три года я
красна девица, четыре только молодею... О, сколько тут следочков оставил
богатырь! И к лавке подходил, и в угол к Тугарину! Режь, режь, мой нож!..
Оглянулась на дверь Маринка крепко закрыта дверь. Сверкнула ледяными
глазами. Сидела на полу, черные волосы разметав, все пришептывала:
Как я режу эти следики Добрынины, так бы резало ретивое Добрынино сердце по
мне, по кудеснице Маринке Игнатьевне! Чтобы резало нестерпимо и ко мне
влекло неодолимо!..
Потом растопила Маринка большую кирпичную печь. Следики, с пола срезанные,
по одному в огонь бросала, за этим делом тайный приговор приговаривала:
Как горят эти следики Добрынины, так горело бы ретивое Добрынино сердце, да
по мне горело, по кудеснице Маринке Игнатьевне! Чтоб не мог Добрыня без меня
ни жить, ни быть, не мог ни дня дневать, ни часу часовать!.. Гори, мой
огонь, гори, Добрынино сердце!.. Радуйся, мой сад!..
Едва пришел Добрыня Никитич домой, стал будто сам не свой. Вдруг
почувствовал, что разгорелось его ретивое сердце жарким пламенем запылало в
груди. Только и думал он что о Маринке Игнатьевне. И красота ее
необыкновенная уже не казалась ему холодной, как лед, и злой, как острый
нож. Красота Маринкина была притягивающая, как огонь в ночи, завораживающая,
как бушующий пожар; красота была ненасытной, сжигающей сердце, растравляющей
душу. И так потянуло Добрыню к Маринке, что никакая сила не могла бы его на
месте удержать: заковали бы в цепи Добрыню порвал бы он цепи; посадили бы за
дверь дубовую, железом обитую, выломал бы дверь; привязали бы к камню Латырю
камень бы на спине потащил.
Спросила Амельфа Тимофеевна, куда опять пошел Добрыня; он не ответил.
Спросила о том же Настасья-жена, он даже не оглянулся.
По улицам шел, по площадям людей не видел; напролом шел, если люди дорогу не
уступали. А видел перед собой Добрыня только Маринкины губы коралловые,
которые двигались-двигались и завораживали, которые путь Добрынин правили.
Он на небо смотрел, не замечал месяца. "Гори, ретивое сердце!." шептали губы
с небес. Смотрел на храмы Добрыня, не видел храмов; губы Маринкины, яркие и
сладкие, как ягоды малины, пришептывали: "Ни дня дневать, ни часу часовать!"
Под ноги себе Добрыня смотрел, ни земли, ни ног своих не видел, а видел губы
манящие: "Радуйся, мой сад!"
В таком полубеспамятстве явился Добрыня на широкий Маринкин двор. В двери
толкнулся оказались открытыми двери. В горницу ступил хозяйка навстречу ему
с лавки поднимается, руки для объятий тянет. И сзади уж Маринка к нему
жмется, широкую спину ласкает; по ступенькам сбегает с радостным смехом:
Пришел мой Добрынюшка, буй-тур!..
И вьется, и вьется вокруг Добрыни Маринка не то танцует, не то
приколдовывает. Ласками осыпала: льнет к груди, целует, на шее виснет. Губы
коралловые ее горячи, руки мягки ласковые, дыхание пахнет травами...
Пришел, пришел, драгоценный мой! Давно я тебя ждала! В год по молодцу, в год
по богатырю! Три года Добрынюшка стольничал, три года Добрынюшка чашничал,
три года у ворот на часах стоял. Всего девять лет. Как девять молодцев! Вот
и десятый пришел...
Ничего не понимал Добрыня из этих речей. Да он и понимать не хотел. Он
звуком Маринкиного голоса наслаждался; к себе красавицу крепче прижимал всем
телом ее слушал. А она не умолкала:
Радуйся, мой сад! Не дрожи, богатырь Добрынюшка! Видно, замерз. Я укрою
тебя...
Здесь мелькнула в руках у колдовки какая-то шкура. И тепло так стало
Добрыне, будто он оказался на затопленной печи. Хотел скинуть Добрыня шкуру
а она не скидывается; хотел Маринку-красавицу попросить, чтобы шкуру сняла,
а сказать не вышло... Замычал Добрыня, как свирепый бык. От мычания этого
могучего задрожали в окошках стеклышки. Ничего не мог понять Добрыня:
наваждение это или кошмарный сон. А Маринка уж его за шею трепала, по спине
широкой, крутой похлопывала, соли каменной лизнуть давала. Да посмеивалась!
Вот беда! Как будто поглупел Добрыня. Радовался прикосновениям Маринкиным,
радовался ласковому голосу ее.
Говорила ему Маринка, чесала бока:
Был ты, Добрынюшка, богатырем русским, будешь теперь гнедым туром. Имечко
тебе придумала знатное! Можешь уж забыть, что был ты Никитич. Ты теперь
красавец у нас, властелин полей и тучных стад! И зовешься отныне Буй-тур
Добрыня, золотые рога!..
Ничего не понимал, мычал Добрыня, хвостом помахивал, покачивал рогами. А
Маринка-потравница ему веревку на шею накинула и во двор, в темноту повела.
Прошли они по Киеву; кроме стражников, никого не встретили. Но стражники
сделали вид, будто не видели Маринку, не хотели связываться, опасались
пакостей.
Вывела колдовка Добрыню в поле. И говорит ему на ушко, спину гладит:
Погуляй-ка, Добрыня, в чистом поле! Сходи-ка к далекому морю Турецкому! Там
увидишь: ходят по пастбищу девять могучих туров. Ты десятым будешь!.. Гуляй,
Добрыня, жирок нагуливай, про хозяйку свою, красавицу Маринку, не забывай.
Из всех ты мой любимый тур! Буду изредка навещать тебя и бока щекотать.
Здесь засмеялась Маринка и отпустила веревку. Заревел на все Дикое Поле
Буй-тур Добрыня, золотые рога и послушно пошел на юг. Глухо стучали о мягкую
землю копыта, далеко было слышно шумное дыхание.
А Маринка сказала вслед:
Цвети, мой сад!..
И день, и другой шел Добрыня на юг. И не мог он понять, куда идет и зачем.
Не помнил про матушку, забыл жену. Помнил только, что оставил какой-то
большой город с белыми стенами, помнил ласковую хозяйку, что чесала ему меж
рогами. Скучал по хозяйке. Но велела она идти ему на юг, вот он и шел.
Чудилось ему, будто ростом он поменьше стал как-то к земле приблизился. Но
зато на ногах он явно крепче стоял! А уж силищу-то какую в себе чувствовал:
горы мог опрокидывать, дубы столетние выворачивать с корнями. Радовала
Добрыню эта силушка. Да куда применить ее, не знал!
На третий день начал мучить его голод. Однако пустынное поле простиралось
вокруг только трава, а жилья никакого. И решил Добрыня хоть травинку укусить
заморить червячка. Попробовал траву. Но что за чудо! Трава в этом поле
оказалась такая вкусная, такая сочная и душистая, что Добрыня от
неожиданности остановился. Ничего вкуснее он в жизни не едал! Долго с этого
поля не уходил, рвал Добрыня траву крепкими зубами, с наслаждением
пережевывал; от удовольствия прикрывал глаза.
Потом оказалось, что и дальше в полях трава так же вкусна. И опять пошел
Добрыня на юг. Шел, по пути срывал травку. Очень пить захотел. Набрел на
какую-то речку...
Вот наклонился Добрыня над водой, от неожиданности вздрогнул. Увидел, что из
реки на него свирепый бык смотрит. Глаза у быка были злые, налитые кровью, а
рога толстые, золотые; и сверкали те рога в солнечных лучах ослепительно. По
привычке потянулся за сабелькой Добрыня, но получилось только передней ногой
дернул, копытом по воде ударил. Как успокоилась вода, опять в ней свирепый
тур появился. И все-то он делал, что делал Добрыня и головой качал, и мигал
глазами. Тут и понял Добрыня, что это себя он видит, свое отражение. И глаза
злые, кровью налитые, это его глаза, а рога золотые, сверкающие
ослепительно, его рога! В этот миг прояснилось сознание и вспомнил богатырь
все, что с ним произошло. И себя вспомнил, и имя свое, и матушку, и любимую
жену Настасью. Но ничего изменить не мог заколдованный Добрыня: горестно
мычал, качал рогами и на свое отражение смотрел. Слезы катились из глаз...
Будь ты проклята, Маринка, черная душа!
Наконец пришел Добрыня к черному Турецкому морю. Горы высокие стояли на
берегу, пустынные горы; как пики, острые. А под горами, на красивом лугу,
увидел Добрыня, гуляют девять могучих туров. А он, значит, десятый.
Замычал Добрыня грозно, копытами взрыл землю; голову наклонил, сверкнул
рогами. Другие туры при виде его испугались, бросились сначала бежать, но
потом остановились. Присмотревшись, пришли к нему на поклон. Здесь заметил
Добрыня, что у туров разные рога и по ним их легко отличать. Еще он заметил,
что, слыша мычанье туров, понимает его понимает так же, как если б человек
ему что-то говорил. И эти девять туров, оказалось, хорошо понимают его. Это
открытие весьма Добрыню порадовало, ибо он уже по общению соскучился и почти
уж смирился, что ни с кем ему более словечком не перемолвиться, ни мычанием
не обменяться.
Туры дикие, свирепые на вид, оказались на самом деле покладистые. Они сразу
приняли первенство Добрыни, потому что у него рога были золотые, а у них
попроще. И назвали Добрыню вожаком. Тут и познакомились. Вместе с Добрыней
вот их имена:
Буй-тур Мстислав, соломенные рога
Буй-тур Афанасий, деревянные рога
Буй-тур Рюрик, глиняные рога
Буй-тур Игнат, каменные рога
Буй-тур Нестор, железные рога
Буй-тур Кирилл, оловянные рога
Буй-тур Ипатий, медные рога
Буй-тур Серафим, бронзовые рога
Буй-тур Андрей, серебряные рога
Буй-тур Добрыня, золотые рога
Сначала повыспросили туры Добрыню: что с ним случилось и как он попал
сюда, к морю Турецкому, на красивый лужок. Потом о себе рассказали. Времени
для этого у них было достаточно. Ходили стадом, травку сочную пощипывали, о
несчастьях своих говорили.
Оказалось, что все эти туры были когда-то добрыми молодцами, славными
русскими богатырями. Жили кто где, совершали подвиги, сиживали на пирах,
заводили семьи. Но каждого из этих молодцев в свое время угораздило
встретиться в Киеве на неспокойной улице Игнатьевской со злой колдуньей
Маринкой-потравницей. На этом и заканчивалось их счастье людское. Из темных
переулков их всех на веревке выводили: кого быком, кого волом, кого
буйволом. И все они становились дикими турами, все на юг шли, к Турецкому
морю, все пробовали вкусную траву и дивились на свое отражение в реках.
А Маринка-вредительница премного изобретательна была. Мстиславу-богатырю она
малого змееныша подослала. Тот гад гремучий ночью глухой заполз спящему
молодцу в нос, добрался до мозга и выел его. Маринка потом голову Мстиславу
соломой набивала набивала, про какой-то сад приговаривала. Так Мстислав стал
туром. А Афанасия-богатыря Маринка живого в гроб упрятала, а тот гроб
воловьей кожей обтянула обтягивала, какой-то сад поминала. Так и Афанасий
стал туром. Рюрика в дом к себе зазвала Маринка, вином опоила, спать
положила. А как заснул Рюрик, облепила глиной его. Глина за ночь засохла,
затвердела. Проснулся Рюрик поутру не может ни рукой, ни ногой пошевелить. А
Маринка уж к челу его турьи рога примеривает да про садик какой-то поет.
Игнат-богатырь иначе был пойман. Маринка след его огромным камнем придавила.
И глазом моргнуть не успел Игнат, как ноги его окаменели, к земле приросли.
Ни вперед, ни назад шагнуть не мог. Маринка же шкуру бычью на плечи ему
набросила да про садик какой-то шепнула. Нестора угостила сон-травой. А как
на пол свалился сонный Нестор, Маринка его кожей буйволиной накрыла и углы
той кожи прибила к полу железными гвоздями. Нестор очнулся на третьи сутки.
А из под кожи как выберешься? Так и стал диким туром Нестор. Мычал на полу,
пока потравница Маринка гвозди не повыдергивала. Выдергивала гвоздочки, про
сад какой-то вспоминала. Кириллу спящему пупок запечатала оловянной печатью.
Заснул человеком Кирилл, а проснулся быком: лежит на печи копытами кверху,
мычит, оловянными рогами тыкается в трубу. Тут Маринка на помощь пришла:
печку маслом конопляным облила. Буй-тур Кирилл и соскользнул на пол.
Потравница его на юг направляла, про садик что-то молвила. Ипатия
дурман-травой обкурила. Пока он поленом лежал, Маринка подлая его медной
меркой измерила. И очнулся уж он с медными рогами. Головой крутил, дурман
стряхивал, а Маринка ему суконцем рога надраивала, чтобы ярче блестели,
надраивала, чистила, за какой-то садик радовалась. Серафима-богатыря
бронзовыми клещами за пятку ухватила. Думал добрый молодец отбиться,
замахнулся рукой, глядь, а в клещах-то не нога его бычье копыто. Растерялся
богатырь. Маринке же только того и нужно. Шкуру клеем намазала и к Серафиму
прилепила. В радости про садик какой-то вскрикивала... А вот с Андреем
намучилась Маринка. Нелегко ей дался Андрей, верток был. Но об этом на
другой страничке сказ. Кто не устанет, тот и прочитает. А кто прочитает, тот
знать будет и уж сам в такую беду не попадет.
Выслушал внимательно собратьев по несчастью Буй-тур Добрыня, золотые рога.
Задумался; какое-то правило чувствовал в этих кознях Маринки, но никак
уловить его не мог.
Говорили дикие туры:
Мы истории эти уж по многу раз друг другу рассказывали. И все никак в толк
не возьмем, про какой же это садик Маринка вспоминает? Про садик тот
Мстислав слышал, и Афанасий, и Рюрик, и Игнат...
Здесь осенило Добрыню:
Все очень просто, братья мои туры! Ежели из имен наших первые буквицы взять
и в одну строчку рядом поставить, то и получится "МАРИНКИ САД".
И задумались дикие туры, стали мысленно буквицы составлять, в удивлении
хлопать ресницами.
А Добрыня им тем временем и говорит:
Выходит, братья, не случайно мы здесь все вместе подобрались! Мы ведь и есть
тайный садочек Маринки. И не случайно Буй-тур Добрыня среди вас последним
оказался. Дожидалась меня Маринка. И за каждым из нас она охотилась...
Согласились дикие туры:
Получается, истоки бед наших не столько в нас самих, сколько в именах наших,
в наших первых буквицах... Теперь легко сообразить, почему умные люди иной
раз придумывают обманные имена. Им не страшна никакая Маринка-потравница.
Сказка, которую рассказал собратьям по несчастью
Буй-тур Андрей, серебряные рога
Жил я, братцы, не тужил, мастерством владел великим, занимался серебряным
литьем. Двадцати лет от роду уже дом себе на Посаде поставил, к тридцати
годам богатство накопил: все в доме было, что только ни пожелает душа. А как
стал богат, так и в палаты княжеские вхож. Оставил я свое литье серебряное
на деда и нанялся к князю Владимиру на службу. Ах, какая жизнь тут у меня
пошла, о том, пожалуй, из нас, братья, только Буй-тур Добрыня и знает! Что
ни день застолье! Что ни другой охота! Что ни третий еще какое удовольствие!
И подарки от князя не были редки: то кольцо, то кубок, то бархатный кафтан,
а то и сапоги сафьяновые зеленые, с золотыми пряжками. Чем не жизнь! Да,
видно, не судьба. Недолго такая моя жизнь продолжалась...
Иду я как-то со службы, братья, довольный иду, хмельной, веселый. Гляжу, мне
навстречу девица красная. Краса красой! Глаз не отвести! Косы до земли,
лицом белая. Ну и все такое! Я в своем веселом настроении никак не мог
красавицу эту пропустить, шуткой-прибауткой не зацепить. Грош цена, братья,
такому молодцу, какой красу девицы не отметит. И хотя есть в народе расхожее
мнение, что красоту дает дьявол, когда Бог ума не дает, я тому не верю. От
Бога всякая красота! Но этот случай, может, был особенный...
Оглянулся я, значит, на красавицу и говорю:
Ах, как хороша девица! Да только не объезжена!
А она мне в ответ смеется, тоже оглядывается:
Торопишься, добрый молодец! Еще неизвестно, кто кого объездит: ты меня или я
тебя!
Дерзость, конечно. Кому б другому не спустил! Но эта девица сдобрила свою
дерзость столь нежным смехом, что я и не думал обижаться. Как шел своей
дорогой, так и шел.
А вернулся домой, подсел к своему деду за стол. Больше родни у меня никого
нет. Сидит дедушка, из тигельков колечки-бусинки серебряные льет, а я ему
рассказываю:
Шел я сегодня домой, дед, и знаешь, попалась мне навстречу такая красивая
девица! Другой такой в свете не сыскать. Вот прямо сейчас бы женился. Да вот
досада! Не так я себя показал, не с теми подошел словами. Говорю: "Хороша
девица, но не объезжена!" Она же мне в ответ: "Неизвестно, кто кого
объездит: ты меня или я тебя!" Обиделась, наверное.
Тут дедушка тигельки отложил, руки о фартук вытер и на меня внимательно так
посмотрел; потом говорит:
Хоть ты и у князя служишь, а дурень! И не знаешь, к кому с шутками дурацкими
подходить!... По описанию твоему узнал я ту девицу. И поверь старику: в
плохую ты историю попал, внук любезный Андрей! Ибо та девица, что обещала
объездить тебя, никто иной, как Маринка-потравница, богатого купца Игнатия
единственная дочь. Ведьма, каких нет больше! И уж если обещала она тебя
объездить, то, считай, пропал ты, внук Андрей, объездит! Готовься к худшему.
Испугался я тут не на шутку, поверил. Если б та девица некрасивая была,
никогда бы не поверил. Но красота ее необыкновенная убедила меня. Взмолился
я, ухватил деда за рукав:
Что же мне делать теперь, дедушка? Не встречался я прежде с ведьмами и не
знаю, как с ними быть. Если б молодец какой, я бы быстро нашелся: в поле б
встретил, вызвал на бой. А тут как? Я хоть и не робкого десятка, а в
растерянности. Я хоть и в кольчуге, а весь открыт.
Да, Андрей, хмурился дед, глаза прятал, занесла тебя нелегкая на ту
проклятую улицу! Маринка слов на ветер не бросает. И времени терять не
станет. Видно, не быть тебе уж завтра живому!..
Совсем напугал меня дед. Говорю ему:
Если б в поле встретиться в открытом бою, постоял бы за себя. А перед
ведьмой я что птенчик перед коршуном!.. Научи, дедушка, как мне быть! Ты
ведь жизнь прожил, многого на свете повидал, кое-чего слышал.
А дед мой уж давно задумался, бородку поглаживал. Наконец говорит:
Не знаю, как сейчас поступают. Научу тебя способу старинному как еще мои
деды с ведьмами боролись. Может, не знает Маринка против этого способа
защиты. Но надежда на то малая, ибо слышал я, что Маринка в деле своем
немало преуспела и все уж прочитала черные книги...
Говори же, дед, не тяни!
Слушай! Сходи в лес, Андрей, принеси толстое осиновое полено, потом узду
приготовь. И ложись на свою лавку будто спишь. Однако будь настороже, не
засни взаправду. Веки прикрой, через щелочку посматривай. В полночь Маринка
к тебе прилетит, коли обещала. И если успеет она крикнуть "Стой, мой конь!"
то тут тебе и конец; превратишься ты в жеребца, ведьма вскочит на тебя и
пойдет по полям-лугам всю ночь гонять насмерть заездит. Потому ты не зевай,
успей вперед Маринки крикнуть "Стой, моя кляча!" Ежели успеешь, внучек, то
она тут же превратится в кобылу. Тогда уж ты ее не жалей: в тот же миг
взнуздай ее, садись верхом и гони в поле. Там гоняй эту кобылу до седьмого
пота, до пены у рта, до смерти; гоняй, а толстым поленом осиновым бей ведьму
по голове. Если убьешь, сам спасешься, а если не убьешь, пожалеешь кобылу,
отпустишь ее, ведьма на следующую ночь к тебе опять придет. И тогда еще не
известно, кто из вас первый крикнет заговорные слова.
Отлегло у меня от сердца, братья. Поблагодарил я деда за науку, сходил в лес
за поленом осиновым, приготовил покрепче узды. Лег на лавке своей. Лежу, на
окошко темное гляжу, Богу молюсь, чтобы не заснуть. Веки прикрыл, а в
щелочку поглядываю. Страшновато, но помирать еще страшнее. Ругаю себя
потихоньку: нечистая меня дернула ведьму зацепить!..
Время шло. Пожалуй, уже и полночь наступила, а Маринка все не появлялась. Я
уж было подумал, что она и вовсе не явится, начал засыпать. Вдруг слышу:
оконце мое стук-стук! Будто кто-то ногтем в него постукивает, проверяет, не
закрыто ли. С меня сон как рукой сняло, волосы на голове зашевелились. Но
лежу тихо, не вздрагиваю... Тут окошко распахнулось, звякнули стеклышки и
влетела в дом та красная девица, то бишь Маринка. Я, хоть и ждал ее, от
неожиданности дар речи потерял. И не знал, чего во мне в тот миг больше
было: страха или восхищения. Я увидел, как прекрасна Маринка, я боялся ее и
любовался ею. У Маринки были за спиной огромные крылья. Она надела жемчуга,
которые ослепительно сверкали. Косы свои она расплела. Ее черные длинные
волосы колдовская сила отблескивали синим. А глаза ее пронзительно синие,
завораживали меня и манили. Ласково улыбалась Маринка, руки белые ко мне
тянула и шептала:
Любимый, любимый, иди же ко мне!..
Да, братья, Маринка не торопилась произнести те заговорные слова. Откуда ей
было знать, что мне известен старинный способ изводить ведьм. Но и я не
произносил спасительные слова: очарованный красотой Маринки, напрочь забыл о
них. Однако выручил меня дед кашлянул на печи.
Тут и спохватился я, крикнул:
Стой, моя кляча!..
Что тут началось! Вспыхнули желтым пламенем, сгорели крылья Маринки. Сама
Маринка вдруг позеленела, потом обратилась в толстую бабу, потом в свинью,
затем в черную козу, и наконец в вороную кобылу. Стояла кобыла посреди
горницы, копытами в пол дубовый стучала; грива у нее была до земли, а глаза
пронзительно синие на меня с лютой ненавистью смотрели.
Как взнуздал я эту ведьму, вывел во двор. Да вскочил верхом, пятками ей сжал
ребра. И погнал, погнал в чистое поле через улицы и канавы, через плетни и
огороды. Вылетел на простор! Ох, и не жалел я Маринку! Ох, и гонял ее по
степи! Никогда прежде не ездил так быстро. Это бешеная скачка была!.. А как
наездился я, братья, так начал ведьму осиновым поленом охаживать. Да по
голове, по голове, без жалости! Кровь залила кобыле морду, но живучая
оказалась кобыла. У меня рука устала поленом махать, а кобыла все не падала.
Но уж я постарался. Упала наконец кобыла замертво. Тогда я еще разок ее
поленом огрел и пошел домой. Как раз рассветать начинало, звездочки погасли.
Пришел домой довольный. А дед уж меня поджидает:
Как покатался, внучек?
Слава Богу, дедушка, заездил ведьму. Спасибо тебе за науку, спасибо, что
вовремя кашлянул!
Это ничего, улыбнулся дед. А теперь спать ложись! Глядишь, все и обойдется.
Хотя не так-то просты ведьмы и нелегко бывает от них отделаться.
Лег я спать и проспал до самого вечера. Спокойно так спал. А вечером будит
меня дед:
Подымайся, Андрей, просыпайся, внук!
Что такое? говорю, глаза тру.
Дед мой головой качает:
Я как в воду глядел: не просто от ведьмы отвязаться. Просто ее зацепить...
Пока спал ты, приходил Игнатий-купец, отец Маринкин. Говорит, померла дочка
этой ночью. И зовет он тебя, внук мой милый, к себе: над покойницей псалтырь
читать.
Я смеюсь:
Это мне, дедушка, не страшно! После сегодняшней ночи мне уже ничего не
страшно... Так, идти или нет?
Дед сокрушенно качает головой:
Пойдешь не быть тебе живым, и не пойдешь не быть тебе живым. Но лучше иди!
Все равно Маринка не отвяжется, а ты хоть достойно будешь выглядеть.
Я плечами пожимаю:
Как же мне быть, если что случится?
А вот как! Расскажу тебе... Ты сейчас придешь к купцу. Он, конечно, начнет
угощать тебя, вином поить. Ты угощаться угощайся, а вина много не пей. Выпей
чуть-чуть для бодрости. Из-за стола поведет тебя Игнатий-купец в ту горницу,
где Маринка в гробу лежит. И запрет за тобой дверь. Ты тогда не бойся,
начинай псалтырь читать. Думаю, читать будешь до самой полуночи. Читай,
духом крепись, ибо в полночь начнутся самые страхи: ветер подует сильный,
гроб на столе затрясется, крышка гроба на пол упадет. И Маринка из гроба
восстанет... Но ты к тому времени уж на печке спрячься, в самый темный
уголок забейся и тихо сиди, шепотом твори молитвы. Может, не найдет тебя
Маринка, может, обойдется все!
Выслушал я дедушку внимательно, вроде все запомнил и пошел к купцу Игнатию.
Тот по дочке горюет, за столом сидит. А на столе уж всякие кушанья
расставлены и вино.
Обрадовался купец, что я не побоялся прийти к нему:
Псалтырь принес?
Принес.
Тогда за стол садись, угощайся. А для начала вот тебе ведерко вина...
Но я черпнул из ведерка малую чарочку и больше не пил. Однако поел вдосталь.
Много у купца было кушаний заморских. Я таких и у князя на столе не видывал.
Вот насытился я, из-за стола поднялся. Игнатий меня за руку взял и к
покойнице повел. Страшновато мне, но виду не показываю, псалтырь крепче
держу, наставления дедовы вспоминаю, по сторонам озираюсь. Горница, вижу,
большая; вся из нее утварь вынесена; посередине стол стоит, застланный
черным бархатом, а на столе гроб, закрытый крышкой. А креста-то нет!
Купец на гроб показал и говорит:
Вот, добрый молодец, читай псалтырь!..
И ушел, а дверь на замок запер.
Жутко мне стало. Тихо кругом, аж в ушах звенит. Свечи горят тускло. И ни
души кругом: я и гроб. А в гробу, знаю, ведьма... Но делать нечего, нужно
выдержать до утра. Псалтырь я открываю и читаю вполголоса, страницами
шелестя. Так час проходит, другой. Время к полуночи подбирается. А с меня уж
и хмель сошел, еще страшнее стало. Но ничего, держусь, выручает псалтырь
бормочу себе, тишину разгоняю...
Вдруг, откуда ни возьмись, подул ветер. Сначала как будто из под двери
сквозняком потянуло. Заколыхались огоньки свечей. У меня мороз по коже
пошел. Потом сильный поднялся ветер, по горнице, как ошалелый, закружил. И
свечи погасли. Темно стало, однако немного видно свет луны в окно падал.
Слышу, гроб задрожал. Гляжу крышка его поднимается. Вспомнил тут дедовы
слова и на печь взобрался; забился в самый дальний угол и сижу тихо:
псалтырь к груди прижимаю, шепотом творю молитвы. Да в горницу одним глазом
посматриваю.
Слетела крышка гроба на пол. Маринка в гробу встала. Страшно. Крестным
знамением защищаюсь. У Маринки глаза открыты, но как будто не видят глаза:
неподвижные, мертвые. И голова в кровь разбита, руки-ноги исцарапаны. Славно
я покатался на ней прошлой ночью! Ох, не простит мне этого ведьма!
Вот спрыгнула Маринка на пол да как начнет по горнице метаться: по углам
посмотрела, под стол заглянула, а также под крышку гроба. Ей на помощь из
щелей нечистых повылазило видимо-невидимо. И все страшные такие: с рогами, с
хвостами, с копытами, с безобразными харями. И свинорылые здесь были, и
козлоногие, и собакообразные. Кто-то с петушиной головой, кто-то с гусиным
клювом, кто-то в рыбьей чешуе. Один в шерсти, другой голопузый, третий в
вороновых перьях. Распрыгались, раскаркались, разблеялись, размяукались.
Шум-гам поднялся; дикий хохот, богомерзкие завывания...
Тише! крикнула Маринка. Из-за вас не вижу его и не слышу. Дрянные вы
помощники!..
А кого ты ищешь? спросили все эти дьяволы.
Андрея-серебряника! Вот только что возле гроба псалтырь читал, да вдруг
исчез нету!
Замерли тут все бесы, замолчали. Такая тишина воцарилась, будто никого в
горнице и не было. Я на печке дышать перестал, в крестном знамении рука
замерла. Молитвы читал мысленно, с жизнью прощался.
Наконец зашевелились опять все эти нечистые. Во главе с потравницей Маринкой
принялись меня искать. Упорно искали, старались перед ведьмой выслужиться.
Во все щелочки заглянули, все углы обшарили; стол перевернули, гроб
перетряхнули; стены, потолок облазили все общупывали и обнюхивали... И до
печки добрались, на лежанку заглянули...
Однако на счастье мое здесь запели петухи. И все бесы завизжали, зарычали,
забранились с досады, потом кубарем покатились, в щели просочились. Все! Их
как и не было! А ведьма, где стояла, там на пол повалилась.
Слез я с печки едва живой. Стол на место поставил, на него поднял гроб. В
гроб Маринку положил, накрыл крышкой. Стою, исправно читаю псалтырь.
Рано утром является купец; заскрипел замок на двери.
Как, добрый молодец, ночка прошла?
Все хорошо, хозяин! Псалтырь от корки до корки прочел.
Но смотрит на меня с сомнением Игнатий-купец:
Плохо я спал нынче! Чудился мне шум какой-то.
Это ветер снаружи гудел...
Ну и слава Богу! кивнул купец, отсчитал мне сотню медных монет и просит:
Приходи, друг любезный, еще одну ночку почитать. Услужи мне в моей беде.
Ладно, приду!
Как вернулся я домой, деду про все страхи рассказал. Дедушка вместе со мной
порадовался, что все обошлось, и велел спать ложиться, ни о чем не
беспокоиться.
Вечером я говорю ему:
Звал меня Игнатий и вторую ночку псалтырь читать. Как мне теперь быть? Ведь
я обещал ему.
Думаю, надо идти! советует дед. Если не пойдешь, все равно не быть тебе
живым. А так хоть достойно будешь выглядеть.
Но ведь найдут меня эти нечистые. Они уже до печки добрались. Что делать-то?
Призадумался дед, потом научил:
Все, как прежде, делай: угощаться угощайся, но много вина не пей. Отведет
тебя купец в горницу, будешь читать. А как ветер подует да гроб затрясется,
ты не на печку, а в печь полезай. Там не найдет тебя Маринка!
Вот пришел я опять в Маринкин дом, а купец уж встречает меня и ласково
улыбается. Может, думал, что не приду я больше. Садит меня Игнатий за столы;
как лучшего гостя потчует. И все вина подливает. Но, как дедушка велел, не
пью я вина пригубливаю только. Наконец наелся я. Купец отвел меня к
покойнице и дверь опять запер.
Все вчерашнее повторилось. Как только ветер поднялся и свечи погасли, как
только затрясся гроб, я быстренько юркнул в печь. Хорошо, что печь большая
была: плечи пролезли. Сижу, тихонько молитвы читаю, одним глазом наружу
посматриваю. Ловлю себя на том, что уж не так мне страшно, как вчера.
Пообвыкся немножко с этой нечистью.
Опять выскочила Маринка из гроба да начала по горнице метаться. Мечется и от
злости шипит. Меня ищет, не может найти. Тут и нечистых, как вчера,
подвалило. Рожи все те же! Шум-гам опять. Всю горницу обшарили, едва стол в
щепки не разнесли. Гроб и так и сяк вертели, бархат перетряхивали будто я
гвоздик какой-нибудь и мог в бархате спрятаться.
Ведьма чуть не плачет:
Вот только недавно, вот здесь читал и исчез. Как в воздухе растворился! Ну
попадется он мне!..
Кто-то из бесов вспомнил:
Он же вчера на печи сидел...
Бросилась к печи вся свора нечистых: в давке мяли друг другу бока, ранили
ноги. Забрались на лежанку, вынюхивали:
Вот здесь, слышите, он вчера прятался!
И спросил кто-то:
А может, сегодня он в печке?
Я и обмер. Куда бежать? Некуда! Псалтырью загородился, приготовился ногами
отбиваться. Гляжу, сунулись дьяволы в печь. Только лапы протянули, только
навострили когти ухватить меня, как пропели снаружи петухи... Ох, и визжали
от досады нечистые! Видеть и не взять!.. Разбежались, в щели просочились, а
ведьма упала на пол.
Тогда и выбрался я из печи; почистился, навел в горнице порядок, Маринку в
гроб положил... Стою, псалтырь читаю.
Чуть рассвело, явился купец:
Как ночка прошла?
Хорошо прошла ночка. Все тихо. Псалтырь от корки до корки я дважды прочитал.
А купец озирается, в углы заглядывает:
Что-то мне плохо сегодня спалось. Все какой-то шум слышался. Не знаешь, что
это было?
Не знаю. Может, телега по улице проехала...
Вышли мы здесь из горницы, купец Игнатий сто серебряных монет мне отсчитал и
опять просит:
Приходи, Андрей, почитать и на третью ночь. Никто, кроме тебя, не
соглашается. А уж я тебе заплачу.
Ладно, приду...
Как пришел я домой, дед ко мне:
Как обошлось, внучек?
Чуть не схватили меня нечистые, дедушка! Уже и лапы свои поганые тянули. Да
вовремя запели петухи... А Игнатий опять зовет. Не знаю, приходить или нет?
Дед головой покачал:
Смотри-ка ты, никак Маринка не отвяжется!.. Однако надо идти. Если не
пойдешь, все равно жить не будешь. А так хоть достоинство сохранишь.
А я говорю:
Другая тут беда, дед! Прятаться мне больше некуда. На печи был, в печи меня
бесы видели, за печь не протиснусь. А горница пуста, все из нее вынесли. Как
быть?
В раздумье почесал бороду дед:
Ты вот как сделай, Андрей... Пойди сейчас к торговцам, купи большую
сковородку. И спрячь ее под рубахой так, чтобы купец Игнатий не видел.
Придешь в Маринкин дом, начнет тебя хозяин вином угощать и разными кушаньями
потчевать. Ты, как и в те разы, много не пей. А ешь сколько влезет. Будешь
псалтырь читать, не бойся! Как подует ветер, как гроб затрясется, так
времени не теряй: залезай на печной столб и сковородкой накрывайся. Нечистые
тебя ни за что не увидят!..
Поспал я маленько, потом купил у торговцев большую сковородку, пришел
вечером на Маринкин двор. Купец встречает меня еще радушнее, чем раньше.
Обнял, расцеловал, за стол посадил. Вокруг меня целый час ходил, уговаривал,
чтоб вина выпил то справа, то слева подливал. А я все кубок свой рукой
прикрывал. За весь вечер одним глоточком ограничился. Зато покушал плотно,
позволил себе.
Закрыл меня Игнатий в горнице. Начал я псалтырь читать. Читаю, на гроб
посматриваю. Уже вроде и не боязно. А все равно думаю: вот если этой ночкой
все обойдется, больше к дому Маринкиному шагу не ступлю. О, если бы я так и
сделал! Не ходил бы сейчас в турьей шкуре, не ходил бы с серебряными рогами
на голове и траву бы не жевал, а сидел бы в светлых палатах князя Владимира
и пил сладкие меды!..
Наконец ветер подул. Да такой сильный ветрище, что едва дом на месте устоял;
крышку с гроба сорвало. Выскочила Маринка опять. Глазищи горят, волосы
растрепаны, на ветру развеваются; лицо кровью залито... А я уж на печном
столбе сижу: голову сковородкой прикрыл, святым крестом отгородился, творю
молитвы.
Нечистых опять набежало полна горница. Кабы я вниз сошел, ступить бы некуда
было. Копошатся, осматриваются бесы, меня ищут. Под ноги глядят, вверх
головы задирают. Прямо на меня смотрят и меня не видят. И Маринка также:
взором прожигает, но не сообразит, что это я сижу под сковородкой. Вот дед
молодец, научил!
Слышу, разговаривают.
Здесь на печи он позавчера сидел!
А вот тут, в печи, он вчера прятался!
Где же сегодня?..
Опять по кругу пошли глупые бесы. И Маринка с ними.
Вот тут еще духом человеческим пахнет. Позавчера сидел.
Да. А тут в печи следы оставил, сажу вытер плечами.
Где же сегодня?..
Я сижу под сковородкой, над нечистыми посмеиваюсь. Так и подмывает крикнуть
им что-нибудь обидное.
Долго бы искали меня бесы и вряд ли бы нашли. Да вдруг возник у порога самый
старый, дряхлый бес. Рога у него были по причине почтенного возраста самые
большие и даже несколько завитые. Рожа вся в бородавках; не нос у него, а
пятак свиной; плешив да беззуб; на плечах и на спине шкура повытерлась.
Кажется, дунь на него он повалится. Однако хвост торчком как у молодого! И
умен не в пример прочим!
Кричит этот бес с порога:
Что вы потеряли, дети?
Андрея-серебряника ищем! Только недавно вот здесь стоял, читал. И куда-то
подевался, как в воздухе растворился! Не можем найти.
Эх вы, уроды слепые! засмеялся старый бес. А это кто на печном столбе сидит,
сковородкой прикрылся? Один из вас что ли?
Это он! Это он! закричали бесы и запрыгали от радости, копытами застучали.
Да только как достать его? Очень уж высоко он забрался...
Я ни жив, ни мертв. Так крепко за печной столб ухватился, что побелели
пальцы. "Ну, дьяволы, думаю, вы у меня все на ногах повисните, а отсюда не
стащите!" И правда, повисли было несколько бесов на ногах, но сорвались.
Тем временем старый бес поучал молодых:
Побегите сейчас по домам, дурни, и разыщите огарок свечи, который был
зажжен, не благословясь. И тащите его поскорее сюда. Времени у нас мало!..
Разбежались бесы. Минуты не прошло, притащили огарок свечи. Начали подо мной
костерок раскладывать, от огарка его поджигать. Я на окошко смотрю,
мгновения считаю. Жду, когда же посветлеет оконце, когда петухи пропоют. Но
была еще глубокая ночь.
А у бесов внизу заминка вышла. Много их было и каждый хотел участвовать.
Отталкивали друг друга, огарок один у одного вырывали, устраивали
перебранки. Едва не подрались. Каждому из бесов хотелось совершить дело
почетное: огонь от огарка развести. Я молитвы все громче шептал, на нечистых
косился. Уже прощался с жизнью.
Видя, что между детьми его нет согласия, подошел к печи старый бес, отнял
огарок и поджег подо мной сложенные поленья.
Отошли здесь нечистые, стали ждать, на меня посматривать, надо мной
насмехаться.
Меня от страха в холодный пот бросило. Но потом от костра жарко стало. И
совсем невмоготу. Особенно ноги припекало. Я то одну, то другую ногу
поджимал. Нечистые, на это глядя, посмеивались. И Маринка среди них стояла,
бледные руки ко мне тянула и улыбалась; говорила:
Ну иди, иди ко мне, милый, дорогой!..
Не знаю, братья, долго ли бы я эту пытку выдержал, но вдруг пропели снаружи
петухи и оконце засветлело.
Слышали бы вы, как взвыли все эти дьяволы! Ведь я уже почти был в их руках,
ведь они уже предвкушали расправу... Они рычали и плакали, они рвали шерсть
у себя на груди, они тянули ко мне свои когтистые лапы. Но вынуждены были
убраться. Через щели в подпол просочились, стало тихо. В этой тишине Маринка
на пол грохнулась.
Спрыгнул я тут с печного столба, огонь затушил, стол опрокинутый поднял,
гроб на него поставил, Маринку на место положил, накрыл крышкой... Стою,
псалтырь читаю.
Рано утром слышу: стукнул замок. Заходит в горницу купец, на темные угли
оглядывается:
Как, добрый молодец, ночка прошла?
Я, как ни в чем не бывало, плечами пожимаю:
Все спокойно! Что тут может случиться? Я от корки до корки три раза псалтырь
прочитал.
А Игнатий все головой вертит:
Этой ночью я вовсе не спал такой мне тут шум слышался!
Может, гроза прошла стороной!
Что ж, гроза так гроза...
Отсчитал мне купец сто золотых монет и опять обратился с просьбой:
Приходи и сегодня ночью, Андрей-серебряник, отвези мою дочку на кладбище. Не
знаю, как и быть без тебя. Никто больше не соглашается, боятся. Знаешь ведь,
какие слухи про мою Маринку ходили. Отвези, будь добр! А я уж тебя не обижу,
жемчугами засыплю.
Жаль мне стало купца Игнатия. Да и себя жаль не меньше: свежа была в памяти
последняя ночь. Помнил я, какой зарок себе давал... Однако уговорил меня
Игнатий. Согласился я на третьей чарке. Хотя условие поставил: чтобы гроб
Маринкин кузнецы медными обручами схватили. С радостью пообещал это купец и
ударили мы по рукам.
Деду я об этом ничего не сказал. И так ясно было, что уж делу конец.
Выспался днем, а поздно вечером прихожу к купцу, вхожу в горницу.
Черный бархат кругом, ленты черные. Игнатий с дочерью прощается, плачет над
ней. Вот попрощался он, гроб закрыли. Кузнецы на него три медных обруча
насадили теперь не раскроется. Поставили на телегу гроб, я рядом сел.
Купец говорит:
Езжай, Андрей, да помни Маринку!..
Признаться, не понял я его слов, не догадался, что отец с дочерью заодно
были. Мне б бежать куда подальше. Но от ведьмы разве убежишь. Все одно не
жить!
Поехал я тихонько по городу, к кладбищу правлю. Гроб на телеге постукивает,
но ничего, не дрожит, не балует. Еду, на лошадку покрикиваю. Смотрю, дед мой
навстречу идет. Пальцем мне грозит:
Что ж ты, внучек, со мной не посоветовался, за такое дело взялся? Быть
теперь беде.
Какая беда, дедушка! Смотри, что я придумал...
Показываю ему на обручи. А дед качает головой:
Хоть сорок сороков обручей насади, все равно не удержишь ведьму!.. Но раз уж
взялся ты за это дело, я тебя еще научу. Наклонись-ка, на ухо тебе шепну.
Наклонился я, а дед мне шепчет:
Обручи твои скоро полопаются. Первый лопнет в ногах. Ты не бойся, лошадку
погоняй. Второй в середине лопнет. Ты тоже смело сиди, покрикивай на
лошадку. А как обруч в головах лопнет, ты с телеги долой! Через лошадь
перепрыгни, за дугу схватись и впереди лошади задом беги. Ни за что не
отыщет тебя ведьма.
Повинился я перед дедом, поблагодарил его. Тут мы и расстались. Выехал за
город. Темно, страшно. Зябко как-то. Слышу, гроб зашевелился. У меня мурашки
по коже. Лопнул обруч, верно дед говорил, тот обруч первый не выдержал, что
был у ведьмы, в ногах. Я сижу, лошадку погоняю. Здесь и второй обруч жалобно
тренькнул, лопнул. Я оглядываюсь, на лошадку покрикиваю. Напрягся весь,
прыгать приготовился. Ждать себя не заставил, третий обруч лопнул...
Но уж я не растерялся: птицей через лошадь перемахнул, обежал ее, за дугу
схватился и бегу задом наперед.
Тут Маринка из гроба выскочила и по следу моему через лошадь скок! Обежала
ее вокруг, мои следы, что задом наперед, увидела и к лошади лицом
повернулась. А я-то у Маринки за спиной бегу. Она и не видит меня... Опять
Маринка на телегу взобралась, опять через лошадь за мной перепрыгнула,
обежала ее, опять же увидела следы мои, что были задом наперед, и к лошади
лицом поворотилась. Долго она так вокруг лошади бегала и, видя следы мои,
обманывалась. Я посмеивался, уже ждал, когда же петухи запоют, но на свою
беду споткнулся... Оно и понятно: темно было, не разглядел на дороге камня.
Упал я на спину, затылком ударился. В глазах потемнело. А как прояснилось,
смотрю: Маринка уж на мне сидит и шкуру какую-то под меня подтыкает, рога
серебряные к моему челу приставляет. Ох, и покаталась же она на мне. Верхом
сидела, пятками мне в ребра ударяла, визжала, как умеют только ведьмы
визжать, а крышкой гроба погоняла. О рога мои, о крестец эту крышку Маринка
разбила в щепы. Каталась на мне, приговаривала: "Ну, кто кого объездил,
плут! Понятно тебе?"
И поверьте, братья туры, заездила бы она меня в ту ночь насмерть, но
прокричали петухи. И отпустила меня Маринка, и велела идти к морю Турецкому;
на юг дорогу показывала, себе под нос бормотала: "Радуйся, мой сад!"
Впечатленные услышанным, долго молчали дикие туры, с сочувствием
поглядывали на Буй-тура Андрея, серебряные рога. Но с не меньшим сочувствием
посматривали они и друг на друга. Травку пережевывали, вздыхали, хвостами от
слепней отмахивались.
Тут заговорил Буй-тур Мстислав, соломенные рога:
Я из всех вас, братья туры, первый в этом садочке Маринкином. И хочу
заверить, что нам еще повезло. Хоть и не в человеческом облике, а живем: на
солнышке греемся, душистые травы щиплем, друг другу свои истории
рассказываем. Может, и спасемся когда-нибудь... До нас же был у
Маринки-потравницы иной сад: посреди степи, вдалеке от всех дорог стояла у
нее мазанка с крышей соломенной; вокруг мазанки тын из кольев острых, а на
каждом колу голова убиенного доброго молодца; и всего там голов было сорок!
Про этот садик Маринкин мне еще бабушка рассказывала меня, младенца, пугала,
чтоб не убежал в чистое поле. Может, правда, может, нет...
Спросил здесь кто-то из туров:
Неужто Маринке так много лет, что ее уже бабушки наши боялись?
И бабушки, и прабабушки про нее разные страхи рассказывали, ответил Буй-тур
Мстислав, соломенные рога. Маринке-потравнице, уж может, лет триста.
Секретом вечной молодости она владеет. Наверное, в книгах своих черных
вычитала. А раз прожила столько лет, то она и умна. Накопила разума. И хитра
необыкновенно. Всех нас с легкостью вокруг пальца обвела. И еще многих
обведет садиков насадит, русских добрых молодцев изведет...
Так разговаривали дикие туры между собой, не зная, где искать спасения, не
зная, есть ли вообще спасение от злых Маринкиных чар. Горевали, сокрушались
туры и даже не предполагали, что спасение их уже близко.
В Киеве, в той знаменитой церкви Десятинной встретила Амельфа Тимофеевна
дальнюю родственницу свою Марью Дивовну. Разговорились после службы и
посетовала матушка Добрыни:
Пропал Добрынюшка мой! Шесть уж месяцев прошло, как бесследно он исчез.
Думали сначала, надеялись, что в Дикое Поле он поехал, на свои любимые озера
лебедей-уток пострелять. Но напрасно надеялись. Глянули в конюшню: на месте
конь его Воронеюшко... Думали потом, что в чистое поле пошел Добрыня
Никитич, с витязями чужеземными биться. Зря думали. Заглянули в оружейницу:
на месте палица булатная, свинцом налитая. Теперь не знаем, что и думать...
Как пошел Добрыня по городу гулять, так и сгинул. Спрашивали купцов,
спрашивали мастеров. Говорят, видели Добрыню, а куда пошел не знают. Ни
Настасье ничего не сказал, ни мне не доверился. Видно, пришла беда! Не
случайно в тот день на кровлю к нам ворона присаживалась, не случайно
каркала! Ничего на свете не бывает случайно!..
Мария Дивовна внимательно слушала. Много чего в жизни повидала, много знала
всяких случаев. Говорит она:
Ты что хочешь думай, сударушка Амельфа, кого хочешь спрашивай. А на мой
разум толку не добьешься! Не иначе, как Маринкины происки здесь! К ней, к
потравнице, угодил в сети наш Добрыня. Окрутила она его колдовством. Ты еще
полгода прождешь, и еще полгода, и сто лет... Не дождешься! Выручать надо
Добрыню, голос понизив, добавила Марья Дивовна: Ты и знать не знаешь, а
Добрыня, может, рядом где: может, качается ставенкой на окошке, может,
сучком торчит на пороге твоем, и ты о него каждый день спотыкаешься; может,
Добрыня синичкой, воробышком прыгает, чирикает под окном, тебя зовет. А
может, пушинкой летает по ветру...
Совсем пала духом Амельфа Тимофеевна, заплакала:
Какие ты страсти рассказываешь! Что же мне делать теперь? На сучок ли
молиться? К кормушке приваживать птахов малых? За каждой пушинкой
гоняться?...
Ничего тебе не надо делать, сударушка! успокоила Мария Дивовна. Я сама
кое-что выведаю.
Выведай, выведай, голубушка! Ты женщина многоопытная. Может, придумаешь, как
Добрыне помочь.
А как же иначе! воскликнула Марья Дивовна. Добрыня меня из плена Змеева
выручил, вернул домой с гор сорочинских. А я его от чар Маринкиных не
освобожу?
Да как узнать, Маринкины ли чары?
О, это не сложно, сударушка Амельфа Тимофеевна! Маринка-то лишь в народе
потравницей слывет и злодейкой, а князю она известна как богатая купеческая
дочь. И сегодня среди прочих купцов и детей купеческих, бояр и боярских
детей Маринка к князю на почестный пир приглашена. На пиру я к ней подсяду
вроде как без задней мысли, чуть побольше, чем прочим, вина подолью.
Охмелеет Маринка и тут же расхвастается. Может, и выболтает что-нибудь про
нашего Добрыню Никитича.
Грустно покачала головой Амельфа Тимофеевна:
Нет, Маринка не расхвастается. Если слухам верить, она постарше нас с тобой
будет. Много пожила, ума набралась поболее, чем мы. Быстро раскусит твою
хитрость. Сама посуди: обманет ли собачка охотника?
Но Марья Дивовна уверена была:
Во хмелю всякий может расхвастаться: и глупый, и умный, и простак, и хитрец.
Что на уме тем и хвастается. Кузнец хвастает кузнечным ремеслом, горшечник
горшками, стекольщик стеклами, былинщик былинами, воин доблестями. А ведьма
Маринка колдовством будет хвастаться. Ежели не будет, я ее к тому подтолкну.
Что касается хитрости обману или нет, я тебе так отвечу... Если б утица не
обманывала сокола, то уж и не жила бы...
На этом женщины расстались. Амельфа Тимофеевна поспешила домой, рассказать
новости Настасье, а Мария Дивовна на княжеский почестный пир заторопилась.
Пришла Марья Дивовна в палаты белокаменные, а там уж гости давно за столами
сидят. Князь Владимир с княгиней Апраксией во главе стола, бояре с детьми по
правую руку, купцы с чадами по левую, а Маринка-красавица прямо напротив
княжеской четы. Сидит Маринка, кушает мало, не пьет ничего, на князя
поглядывает, ласково улыбается. Князь улыбкою ей отвечает, а княгиня возле
него нервничает, на Маринку глядит прохладно.
Марья Дивовна меж столов похаживает, за Маринкой коварной приглядывает,
думает, с какого бы боку к ней подсесть. Глядит Марья Дивовна, Маринка
уронила платочек. Нагнулась потравница, под столом пошарила, платочек
нащупала, но не взяла. Волос княгини Апраксии она искала; нашла, под
каблучок свой положила. Побледнела княгиня, недомогание почувствовала. Здесь
Маринка нажала каблучком княгиня Апраксия за грудь схватилась. Совсем плохо
стало. И покинула Апраксия пир, в свои покои удалилась. А Маринка уж опять
князю улыбается...
Тут и подсела к ней Марья Дивовна, кубок подала:
Выпей, красавица, за здоровье княгини Апраксии!
Что ты, бабушка! отпрянула от кубка Маринка. Я вовсе не пью!
Выпей, красавица! не отставала Марья Дивовна. Видишь, занемогла
княгинюшка...
Выпей, Марина, просил князь.
Не могла Маринка отказать Владимиру, но на кубок со страхом глядела, а на
эту старуху, из под локтя невовремя вынырнувшую, с раздражением. Но уж гости
смотрели на Маринку, деваться было некуда. Осушила Маринка кубок... Не
успела его на стол поставить, а Марья Дивовна опять до краев налила:
Вот и умница, красавица, уважила! За княгинюшку выпила, надо и за князя
кубок поднять. Так у нас заведено! Нельзя без здоровья-то князю нашему...
Маринка от злости зубами скрипнула. Но виду не кажет. В глаза Владимиру
ласково улыбается; между тем старуху эту привязчивую стерла бы в порошок и
по ветру развеяла.
Выпила Маринка до дна второй кубок. А Марья Дивовна, женщина многоопытная, с
третьим кубком не запоздала:
Ты моя ласковая, ты моя красавица! Не поверю тебе, если за свое здоровье
теперь не выпьешь!.. Может ли хворый пожелать здоровья князю с княгинюшкой?
Как пожелать, если сам не имеешь?..
Засмеялись гости:
Ай да бабка! И то дело...
Поддержали купцы-бояре:
Сидит красавица, не ест, не пьет. И никто за ней не поухаживает... Подливай,
подливай, Марья Дивовна!
После третьего кубка опьянела Маринка. Закачалась на стуле высоком, за край
стола руками ухватилась. Князю еще ласковей улыбалась, чем прежде. На
старуху, вино подливающую, уже без злости смотрела хмель брал свое. Во хмелю
оказалась Маринка помягче, чем при ясном разуме. И так захотелось Маринке
похвастаться своими колдовскими проделками прямо невмоготу! Уже и рот
раскрыла, да взглянула на Марью Дивовну и прикусила язычок: слишком уж
благообразной показалась ей эта старушка.
Спросила Маринка:
А ты чего сама не пьешь, бабушка? Все только мне подливаешь...
Стара уж я кубки поднимать.
Сколько же лет тебе?
Ох, много! Полвека молодицей ходила, полвека женой, полвека вдовой хожу.
Спасибо, что спрашиваешь!..
Так отвечала Марья Дивовна, а сама замечала, что у Маринки уже язычок
развязывается бойкий такой язычок! Еще плеснула ей в кубок. Та выпила. И еще
подлила Мария Дивовна. У Маринки в глазах загорелось озорство, рука же сама
к кубку тянулась. Пила и пила ведьма. Уже не качалась, хотя в глазах все
плыло: и князь, и эта старуха добрая старуха, улыбчивая, словоохотливая. Вот
с кем можно посудачить на этом пиру: женщина многоопытная, оценит по
достоинству колдовские подвиги!
А Марья Дивовна ей и говорит:
Ты, красавица, видать, не пьешь вина так быстро захмелела. Пойдем-ка, в
горенку отведу тебя. Не бойся, я князю родственница, везде вхожа. Отдохнешь
в креслах, а я тебе рукоделья покажу. Посплетничаем...
И пошли они в горенку, сели в удобные кресла. Марья Дивовна Маринке
рукоделья показывает, на нее внимательно глядит. Видит: аж распирает
Маринку, так хочется похвастаться. Тогда и подталкивает ее:
Да, красавица, годков уж много мне! Хорошо на старости лет живу. Спасибо
славному богатырю Добрыне Никитичу. Он меня из плена Змеева выручил, а то б
в оковах гнила!.. О, Добрыня самый лучший богатырь. Силой, пожалуй, равен
Илье Муромцу, но происхожденья благородного, княжьих кровей. В смелости не
уступит Алеше Поповичу, а в смекалке обойдет. И собой красив, и на гусельках
играть мастер, и сказку расскажет, и песню споет... Нет, не удержит жена
Настасья возле себя такого молодца. Ему нужна женщина покрасивей, поумней
вот, навроде тебя! Ах, какая бы была пара!..
Тут Маринку и прорвало:
Разумная ты, бабушка! Все правильно понимаешь. И Добрыню твоего я давно
приметила. Не скрою, полюбился он мне. И уже полгода у меня в садочке
гостит. А я не решила еще, как с ним быть: замуж за него пойти или Настасье
оставить...
Сказала так Маринка, похвасталась и тут же пожалела, что
разоткровенничалась. Увидела, как переменилась в лице Марья Дивовна. Из
старушки розовощекой, благообразной превратилась в разгневанную соколицу.
Брови вверх взлетели, побледнело лицо, хищно вздрогнули ноздри, ледяными
огоньками блеснули глаза. Прошипела Маринке в лицо Марья Дивовна:
Ведьма проклятая, Маринка-потравница! Распустила свое помело, про Добрыню
расхвасталась. Ногтя не стоишь его!..
Изумилась Маринка столь резким переменам, рассмеялась:
Стою ли я ногтя его или он моего не стоит, о том не тебе решать, бабушка! А
вот похвастать еще могу. Ты сама того хотела. Так слушай! Твой Добрыня
любезный, змееборец непобедимый, в моем дворе диким туром стоял, копытами
постукивал да в ладошку Маринкину ласково носом тыкался...
На это ответила Мария Дивовна:
Колдовство обман. Ты обманом взяла славного богатыря. Так и я тебя возьму
обманом. Руки у меня развязаны!.. Знай, Маринка, на всякую ведьму есть
ведьма сильнейшая. Вот сейчас ты в глаза мне искры мечешь, а завтра будешь
ползать змеюкой подколодной. Я о том позабочусь.
Однако не испугала Маринку эта угроза. Тогда иначе пригрозила Марья Дивовна:
Если не отпустишь Добрыню Никитича, превращу тебя в собаку подзаборную.
Будешь под окнами бегать, подачки выпрашивать, а все, кто ни попадя, будут
тебя в брюхо ногами пинать. Вот тогда взвоешь, заскулишь. И пожалеешь о всех
своих злых кознях!..
Призадумалась Маринка Игнатьевна: видно, испугалась. Ни к чему ей была
вражда с Марьей Дивовной. Кто знает эту старуху, велика ли ее колдовская
сила! А если и впрямь велика?.. Ни для кого не тайна: на всякого силача
найдется силач, на всякую ведьму отыщется ведьма! Это верно старуха
говорит... А всего-то они не поделили Добрыню. Кабы царство или хотя бы
полцарства!.. Надо уступить... Но и упускать Добрыню не хотелось. Он и
правда полюбился Маринке. "Ладно, подумала она. Сейчас уступлю старухе, а
там больше времени будет, поразмыслю на досуге как быть!"
Хорошо, бабушка! кивнула Маринка. Не будем сейчас спорить, не будем
ссориться. И силами меряться не будем. Расколдую я твоего Добрыню...
Тогда времени не тяни, кружила вокруг Маринки Марья Дивовна, грозной птицей
нахохлилась. Не надо выкручиваться на досуге, не надо измышлять новые
пакости. Прямо сейчас, Маринка, серой ласточкой обернись и лети,
расколдовывай Добрыню Никитича!
Злобно скривилась Маринка Игнатьевна, перекосилось красивое лицо. Волосок
свой черный выдернула, узелком завязала. Обернулась серой ласточкой, по
горнице покружила и в оконце раскрытое выпорхнула.
Засмеялась тут Марья Дивовна, сама себе сказала:
На каждого умника найдется другой умник, на каждого хитреца и похитрее
сыщется. Кабы куропатка не обманывала лису, уж и не жила бы. А кабы я была
ведьмой, то у Змея Горыныча не страдала бы в пещерах! Не так уж и умна
Маринка...
А Маринка Игнатьевна, злая ведьма, взвилась серой ласточкой под облака.
Не на шутку испугалась она Марьи Дивовны; видела, с какой легкостью
преобразилась та. То милой старушкой была, винца подливала, а то соколицей
стала, острые крылья раскинула, а то вмиг вороной нахохлилась. Видать,
многое умеет, не нужно с ней связываться.
Воздух крыльями рассекая, мчалась Маринка на юг, к морю Турецкому. Реки и
поля, овраги и горы так и мелькали внизу. Скоро увидела ведьма прекрасный
лужок впереди, а посреди лужка садик свой заветный, десять диких туров.
Узнала и Добрыню среди них по золотым рогам. Села Маринка ему на широкую
спину и говорит:
Буй-тур Добрыня, золотые рога, возьмешь ли меня за себя замуж, откажешься ли
от своей Настасьи?.. Тогда верну тебе человеческий облик!
Поглядел на нее тур печальными глазами и ответил:
Если и других молодцев отпустишь, обернешь их в человеческий облик, так и
быть, откажусь от Настасьи и возьму тебя замуж.
Тут серая ласточка встрепенулась, в воздухе перекувыркнулась, обратилась
Маринкою:
Сделайте все, как я сделала!
Дикие туры замычали радостно, рогами в землю уперлись и кувыркнулись через
голову. Падали на травку турами, а поднялись добрыми молодцами. Бросились
друг к другу на радостях обниматься, один другого едва узнавали. А как
восторги свои выразили, начали прощаться каждого кто-то дома ждал.
Оглянулись молодцы Добрыни уж рядом нет. Поискали глазами: а он с Маринкою
далеко по дороге идет, им на прощание рукой машет.
Побратались, добрые молодцы, крестами меж собой обменялись и разошлись на
все четыре стороны...
С холма на холм бежала дорога, между лесочками вилась. Вывела в степь
бескрайнюю. Солнце палило нещадно. И захотелось Добрыне с Маринкой пить.
Сказал Добрыня Никитич:
Много бы отдал я сейчас, Маринка, за ковшик воды.
Оживилась Маринка, Добрыню оглядела:
А что бы ты отдал? У тебя, кроме лука со стрелами, кроме сабельки острой,
ничего нет!.. Разве что душа осталась. Душу бы отдал?
Смекнул Добрыня Никитич, что неспроста задает ведьма этот вопрос; ответил,
глазом не моргнул:
Отдал бы и душу так пить хочется!
Поглядела на него Маринка недоверчиво, через минуту осторожно говорит:
Да, далеко еще до Киева. Не один день идти. Можно было бы и попить. И совсем
недалеко отсюда есть у меня еще один садочек. Три версты влево взять и мы на
месте! Там воды хоть залейся. Да не забоишься ли ты, мой Добрыня?..
А чего бояться? удивился Добрыня. Душу ведь тебе отдаю и не боюсь!..
Хорошо, идем.
И повернула Маринка влево, и скоро привела Добрыню Никитича к тому страшному
садочку, о котором рассказывал Буй-тур Мстислав, соломенные рога. Увидел
Добрыня старую мазанку посреди степи; крыта та мазанка была соломой, но
солома уж сгнила почти вся от времени. Вокруг мазанки тын из высоких кольев.
А на кольях человеческие черепа надеты числом сорок. И видно, давно эти
черепа здесь были. Белые стали от солнца, как снег.
Печальное и страшное зрелище...
Маринка косилась на Добрыню как себя поведет? Не испугается ли садочка, не
обозлится ли? Но Добрыня будто и не глядел на выбеленные солнцем черепа.
Отворила калитку, вошла ведьма во двор; позвала Добрыню к колодцу. Ковшиком
черпнула, стала пить.
А Добрыня Никитич ей тихонечко говорит:
Кровушку пьешь людскую!..
Что? не расслышала Маринка.
Я говорю: хочу полюбоваться на тебя, красавица, в твоем садочке.
А пить не хочешь? забеспокоилась ведьма. Ведь был же уговор насчет твоей
души.
Потом попью! махнул рукой Добрыня. Сначала на красу твою полюбуюсь.
Приятны были Маринке эти слова. Давно уж таких ей не говорил никто. Добрые
молодцы стороной обходили, а Тугарина Змеевича, понимающего красоту ее,
Добрыня ненароком убил.
Заулыбалась Маринка, ковшик положила, стала по двору туда-сюда
прохаживаться, красоту свою показывать: и стройный стан, и крутые бедра, и
грудь высокую, и плечики узкие, и лебединую шею. А Добрыня ее на руки
подхватил и на тын усадил: как раз между двух черепов.
Ах, красавица! разводил руками, в сторону отошел. И почему я раньше тебя не
встретил? Почему не занесла меня судьба на улицу Игнатьевскую?..
А Маринка красовалась на тыне: и так повернется, и сяк. Купается в меду
Добрыниных похвал...
Но тут вдруг выхватил Добрыня из-за спины тугой лук, выдернул из колчана
стрелу каленую и послал ее прямо ведьме в горло:
Это тебе за первого тура!..
Выпучила глаза Маринка, ухватилась руками за древко: порывалась вытащить
его.
Вторая стрела вонзилась ей в печень:
Это тебе за второго тура!..
Схватилась Маринка за эту стрелу. Тянула древко, кровью поганой обливалась.
Следующая стрела пробила ей живот:
Это тебе за третьего тура!..
Уж не знала Маринка, за какое древко хвататься. Рот разевала, как рыба на
песке. Кровью змеиной обливалась. А глаза загорелись ненавистью.
Девять стрел выпустил в ведьму Добрыня Никитич. За каждого из братьев-туров.
А десятую стрелу он послал Маринке в сердце:
А это тебе душа моя!
И погасли навеки злые глаза ведьмы. Тело ее, зацепившееся за кол, осталось
на тыне. Подошел поближе Добрыня Никитич, сабелькой махнул:
Вот тебе, невестушка, за все садочки!
И, будто тыква, глухо стуча, покатилась по земле Маринкина красивая
голова...
|