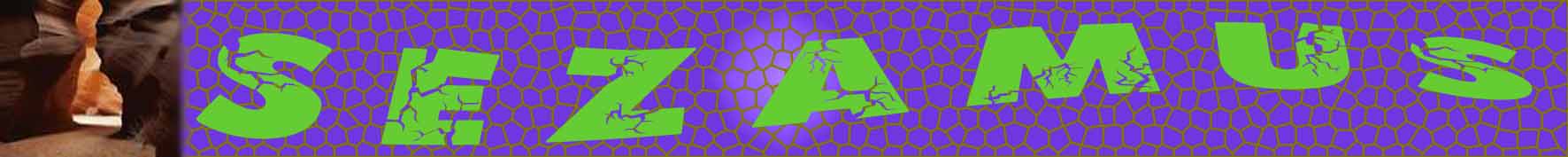|
| |

Богатырь
Добрыня Никитич
|
|
|
 |
Как-то в Дикое Поле поехал наш Добрыня Никитич – поохотиться. На чужих
витязей заезжих одним видом своим страху нагнал. Поразъехались витязи в
дальние земли, даже не обиделись. Как не обиделись бы на гору, какая
встретилась им по пути. А Добрыня Никитич знай себе стрелочкой постреливает:
то птицу в лет собьет, то зверя в камышах сразит. День-деньской охотился, к
вечеру притомился самое время о ночлеге подумать.
Прост у витязя ночлег. В травы высокие бросил плащ вот тебе и ложе. А под
голову седло. Мягче не найдешь подушки после трудного дня.
Лег Добрыня отдыхать, долго лежал без сна. В небо смотрел, любовался
звездами. Нет прекрасней звезд, чем в небе над Киевом! Лежал, слушал ночные
звуки: то его конь где-то рядом всхрапывал, копытом стукал, то шумел ветерок
в крыльях пролетающей птицы, то шелестели у изголовья шелковые травы. Запад
долго светился алою полоской. Вот и он поблек, потемнел...
Заснул Добрыня Никитич и ничто не тревожило его сон. Звезды мерцали,
ворожили, колыбельные сказки нашептывали; теплый ночной ветерок убаюкивал. И
снилось Добрыне странное ночное поле будто освещенное полной луной, но на
небе в ту ночь луны не было. Стояли в человеческий рост серебряные травы,
вдалеке черными клиньями раскинулись леса. Там за лесами как будто
чудо-богатырь пахал землю, толстые пласты плугом выворачивал и пел заунывную
песню. Странный, непонятный сон. Сейчас, когда он снился, знал Добрыня, что
видит его уже не в первый раз. Ждал Добрыня Никитич: вот дойдет сейчас
сказочный пахарь до конца поля, плуг повернет да новую песню затянет. Тогда
покажется из-за леса всадник, истинный великан... Так и вышло: дошел пахарь
до конца поля, серебряный плуг из землицы вытащил, в другую сторону
повернул, потом щелкнул бичом и затянул песню новую новую и очень грустную.
Ворожили в бездонных небесах, мерцали таинственные звезды. Спал Добрыня
глубоким сном, мерно вздымалась широкая грудь...
Вот выехал из-за леса тот всадник из великанов великан. Едет по полю
медленно, пригибается, дабы шлемом-шишаком не задеть небосвод. Плащ
серебряный слегка под ветром колышется. Конь идет, головой покачивает. Ни
лесов, ни оврагов не видит. Что они ему! Сосны вековые как былинки малые;
глубокие овраги что след от подковы. Едет всадник, да медленно к Добрыне
голову поворачивает. А у Добрыни Никитича нашего оттого замирает сердце, ибо
видит он, что сама ночь на него глядит. На темном лике ее глаза две яркие
звезды. Улыбается насмешливо ночь. Нет, не видит она богатыря Добрыню. Она
мыслям своим улыбается.
Было, было такое! Знает Добрыня. Задевает за живое его невидящий взгляд
всадницы Ночи. Сейчас поднимется он и пустится в погоню. И точно! Поднялся
Добрыня Никитич с земли и бросился за великаншей. Он не знал, чему дальше
быть суждено, смел и отчаян был.
Долго скакал, наконец догнал Добрыня великаншу. Палицей своей тяжелой
размахнулся и ударил ее прямо в голову. Но будто и не ударял как ехала
великанша, так и продолжала ехать. Даже не оглянулась, даже глазом не
моргнула. Оттого не по себе стало Добрыне Никитичу, остановил он коня,
палицу оглядел, в руке взвесил, плечом привычно повел. И сказал сам себе:
Вся смелость у Добрыни вроде по-старому. Может, сила у Добрыни не
по-старому?
Повернул Добрыня Никитич к черному лесу, нашел на опушке дуб сырой большой
дуб, толщиной в три сажени. И ударил он палицей в этот дуб, и расшиб его в
мелкие щепки. Здесь сказал сам себе такие слова:
Вся сила у Добрыни вроде по-старому. Наверное, смелость у Добрыни не
по-старому!
И погнал он коня вслед за великаншей. Догнал ее опять, размахнулся палицей
да ударил посильнее. Едва руку себе не отшиб. Но будто и не было ничего.
Едет не спеша великанша, не оглянется, глазом не моргнет. Совсем не радовало
это Добрыню Никитича, такого с ним еще не бывало. Остановил он коня в
растерянности. И говорит сам себе такие слова:
Нет, смелость у Добрыни по-старому. Может силы у Добрыни не по-старому?
Возвратился тут Добрыня Никитич к черному лесу, отыскал на опушке потолще
дуб в шесть саженей. И ударил в него палицей булатной. Да так ударил, что в
мелкие щепки тот дуб расшиб. Здесь сказал он себе такие слова:
Нет, вся сила у Добрыни по-старому. Наверное, смелость у Добрыни не
по-старому!
И погнался он за великаншей в третий раз, и со всего размаху, со всех своих
сил богатырских ударил ее в буйную голову. Руку себе отшиб, от боли в глазах
потемнело.
На этот раз оглянулась великанша. Улыбнулась удивленно. Ярче загорелись
глаза-звезды. И говорит гулким голосом, насмехается:
Я думала, комарики покусывают. А тут оказывается русские богатыри
попрыгивают, палицей пощелкивают.
Расхохоталась великанша будто гром прогремел. Ухватила Добрыню за русые
кудри и вместе с конем вороным сунула к себе в карман. Да такой глубокий тот
карман был, что Добрыня, как ни старался, выбраться из него не мог.
Трое суток ехала куда-то великанша, трое суток Добрыня в темноте сидел без
воды, без хлеба. И все время слышал, будто лилась издалека заунывная песнь
сказочного пахаря, слышал, мелкие камешки под серебряным плугом скрипели да
пощелкивал бич.
Вдруг взмолился под великаншей великанский конь и говорит человеческим
голосом:
Государыня молодая Настасья Микулична! Выслушай меня, недостойного. Тот конь
богатырский, что в кармане твоем, явно против меня. А сила и того богатыря
явно против тебя. Смилуйся, не могу больше везти вас с богатырем.
Отвечает ему великанша Настасья Микулична:
Хорошо, мы с тобой вот как поступим: если в кармане моем старый богатырь, я
ему голову срублю; если в кармане моем богатырь молодой, я его в плен
возьму; а если он красавец-богатырь да по сердцу мне придется, я за него
замуж пойду...
Ясное дело, согласился конь. Тогда вынула великанша Добрыню Никитича из
кармана и пригляделась к нему:
Нет, не стар этот русский богатырь. А очень даже молод может, слишком! Да
пригож, удал, да чуть сильнее комарика. Пожалуй, он по сердцу мне!..
Великанский конь заржал радостно.
А Настасья Микулична уже с доброй улыбкою говорит:
Да, ты нравишься мне, Добрыня Никитич молодой! Мы поедем с тобой к стольному
граду Киеву, прямо к ласковому князю ко Владимиру. И примем из его рук по
золотому венцу.
Никак не мог Добрыня Никитич воспротивиться, ибо понял вдруг, что это и его
первейшее желание. Поймал себя на том Добрыня, что жить без этой великанши
уже не может. Рассмотрел ее в свете зари. Глаза увидел вовсе не звезды, а
озера синие. Чело бескрайние пшеничные поля. Косы бесконечные дороги.
Румянец само утро. Дыхание нежный ветерок...
Плуг серебряный землицей шуршал, толстые пласты отваливал. Песню грустную
тянул сказочный пахарь.
Проснулся тут Добрыня Никитич оттого, что кто-то его легонько за плечо
тронул. Открыл глаза, увидел незнакомую девицу-красавицу в воинских
доспехах. Улыбалась девушка, кудри Добрынины русые длинные путала и
говорила:
Ох, и нравишься ты мне, Добрыня Никитич молодой! Поедем-ка с тобой к
стольному граду Киеву, прямо к ласковому князю ко Владимиру. И примем из его
рук по золотому венцу.
Изумился Добрыня, сел, глаза протер.
Кто ты? спрашивает. Почему я не знал тебя раньше?
Засмеялась красавица:
Зовут меня Настасья. У отца моего Микулы Селяниновича три дочери. Я дочь
младшая. А не знал ты меня раньше, потому что не смотрел. Между тем мы с
тобой встречались у реки. Помнишь, сказочки рассказывали?
Посмотрел на девушку внимательно Добрыня Никитич. Увидел, что глаза у нее
как синие озера, а чело золотая пшеница. Косы червоного золота ручьи;
румянец заря нарождающаяся, а дыхание словно нежный ветерок...
Но ты снилась мне. Вот чудеса! Один и тот же странный сон приходил в каждую
ночь. И грустно мне было, и не мог я, как прежде, жить, не мог ни есть, ни
пить, все томился отчего-то.
Звонче прежнего засмеялась Настасья Микулична, открыла тайну:
Это действовал заговор. Хочешь послушать? Тогда все тебе станет понятно.
Села Настасья Микулична рядом с Добрыней, прижалась спиной к его плечу и,
зеленую травинку покусывая, прочитала:
Пойду я в чистое поле, есть в чистом поле белый кречет. Попрошу я белого
кречета: слетал бы он в чистое поле, в синее море, в крутые горы, в темные
леса, в зыбучие болота и попросил бы он окаянную силу, чтобы дала она ему
помощи сходить ему в высокий терем и застать его хоть бы середка темной ночи
сонного. И сел бы белый кречет на белую грудь, на ретивое сердце, на горячую
печень и вложил бы рабу Божию Добрыне из своих окаянных уст, чтобы он не мог
без рабы Божьей Настасьи ни жить, ни быть, ни пить, ни есть... поглядела
украдкой на молодого богатыря. Всякая девушка может этим волшебным заговором
парня присушить.
Нежно смеясь, повалила Настасья Микулична Добрыню в траву и в уста сахарные
поцеловала. И почудилось молодому богатырю, что сел ему на грудь белый
кречет, а великанша Ночь опять его за кудри ухватила, глазами-звездами его
околдовала и в бездонный темный карман бросила. Но милее того волшебства
ничего для Добрыни не было. Скрипел, шуршал вдалеке землицей серебряный
плуг; сказочный пахарь Микула Селянинович напевал грустную песню...
Целый день провели Настасья и Добрыня в объятиях друг друга, а к вечеру
поймали своих коней: он вороного, а она снежно-белого. И поехали в стольный
Киев-град. Так полюбили они, что друг от друга глаз оторвать не могли. Ехали
рядышком, за руки держались. Ехали, молчали не нужны им были слова.
Вот в палаты поднялись белокаменные, князю Владимиру поклонились и просили,
чтоб дал им по золотому венцу, чтоб дал еще соизволение, княжье
благословение и назвал впервые мужем и женой.
Принял их князь Владимир ласково, дал по венцу золотому, дал еще соизволение
свое, княжеское благословение и послал бояр за священником.
Как пришел священник-грек в одеждах шелковых, темно-лиловых на груди цепь
золотая, на цепи крест православный, сверкающий каменьями. Бородища у
священника лопатою да вся в проседях. На Добрыню и Настасью строго смотрел
черными глазами, про согласие спрашивал, про любовь говорил и верность, про
судьбу неразлучную; и про смерть молвил куда от нее денешься! в пустыни
безлюдные ее отсылал за тридевять земель, в глубины бездонные гнал ее за
тридевять морей. Потом давал Библию целовать в золотом окладе, чтоб
коснулись губами ног страждущего Христа, чтоб в глаза его всепонимающие
посмотрели.
И садили молодых за широкие столы. Князья-бояре, воеводы, а также славные
богатыри им дорогие подарки подносили. В горнице просторной водили девы
хоровод. Все нарядные девы, каждая княжна. Жемчуга и кораллы на них в
изобилии как в изобилии песка на речных берегах. А наряды их,
платья-рубашечки, все золотою шиты нитью. Над головой у каждой будто
солнышко восходит то кокошник блестит. А передники узорами замысловатыми
расшиты. Что ни узор сказание, что ни стежок характер, во всякой строчке
любовь.
Закружили девы возле молодых, прекрасноликой невесте песню запели:
Из-за лесу, лесу темного,
Из-за темного, дремучего,
Тут летает стая серых гусей,
Серых маленьких утиц,
Как вторая белых лебедей.
Не умела лебедушка
По мелким ручьям да плавати,
По гусиному да кикати
Лебединым тонким голосом;
Еще начали серые гуси
Как белую лебедь щипати;
Что белая лебедь кикати:
Не щиплите вы, серые гуси,
Серые маленькие утицы;
Не сама я к вам залетела
Не своею я охотою;
Злой великою неволею
Занесли да ветры буйные
Злы погодушки великие.
Не умела да Настасья
На головушке управити,
Злой свекровушке уладити.
Еще начали чужие люди,
Богоданные родители
Журить-бранить Настасью;
Как девица стала плакати:
Не журите вы, чужие люди,
Богоданные родители,
Не сама я к вам во двор пришла,
Что завел меня сам млад князь
На своих он добрых конях,
На добрых, на уступчивых.
Поклонилась девушкам Настасья Микулична, одарила их печатными пряниками.
Тогда и Добрыне Никитичу спели красавицы:
Что сказали не грозен Добрыня,
Что сказали не страшен,
Он грозен, грозен, немилостив,
Что гроза его великая,
Красота его неизреченная.
Он ходил, гулял по улице;
Заходил он ко тестю во двор,
Что ко теще на новые сени,
С новых сеней во горницу,
Во горницу за завесу
Души красной девицы,
Ко княгине первобрачной,
Ко невесте нареченной;
Брал ее за правую, за руку,
Поломал у нее злачен перстень,
С дорогой модной вставочкой.
Тут девица испужалась,
Душа красная перепалась:
Уж как я скажу батюшке?
Уж как я скажу матушке?
Уж ты скажи батюшке,
Уж ты скажи матушке:
Я брала свои золоты ключи,
Отмыкала окованы сундуки,
Вынимала черно плисово сукно,
Я кроила Добрынюшке кафтан,
Чтоб ему не долог был,
Чтоб ему не короток был,
По подолу был раструбистый,
По середке пережимистый,
По подпазушкам перехватистый,
Чтобы он легко на коничка скакал,
Хорошенько разъезживал.
Добрыня Никитич красавицам поклонился, всем поднес им по кубку зелена
вина. Тогда девушки просили князя, чтоб не обижал щедрого женишка. А Амельфу
Тимофеевну просили, чтоб не обижала молоду-невестушку, чтоб как дочь ее
приняла.
Так только начался свадебный пир. Продолжался же он целый месяц. И за тот
большой пир еще прошло тридцать три малых пира. Пока большую Добрынину
свадьбу играли, еще тридцать три малых свадебки сыграли. Гулял стольный град
Киев, звонили колокола. По широкому Днепру купеческие ладьи проплывали.
Выходили на пристани заморские купцы, на мостовые киевские стелили ковры, на
скамейках парчу раскладывали, продавали не дорого, все звали молодых по реке
покататься...
Молодые Добрыня и Настасья после свадьбы всех своих дружков-подружек
посещали, пол-Киева обошли. Потом до родни черед дошел: тетушки, дядюшки,
кумовья... И как-то забрели Добрыня с Настасьей к тетушке Марье Дивовне
уважили старуху. И подарков ей принесли, и от нее подарки приняли, и
попробовали разных угощений.
Потом Марья Дивовна и говорит:
Были вы по одному красавцы, а вдвоем так еще краше стали! Поистине, любовь
творит чудеса!..
Улыбнулся Добрыня Никитич:
Какие ж чудеса, тетушка! Разве что жить стало веселее, разве что томление
прошло!..
Покачала головой Марья Дивовна:
Про то ты позже поймешь! посадила поближе Настасью Микуличну, посадила
Добрыню рядом и сказала: А вот послушайте, какая бывает любовь и что
случается, когда перестаешь в любовь верить...
Вила и Ласка
В давние времена жил-был старик. Звали его Ласка. Уж так стар он был, что
и не знал, сколько ему лет. Жил в избушке один ни жены, ни детей все уж
давно поумирали. Год за годом бежали быстро, а старику Ласке все сто лет. С
хозяйством своим легко управляется. И поле без помощников обработает и в
саду урожай снимет, избушку свою махонькую яблоками засыплет; потом всю зиму
на печи лежит, вспоминает прежние годы, молодое житье-бытье.
Вспоминает-вспоминает да задумается: а было ли оно, молодое? Ведь давно уж
за сто перевалило сто лет как старик!
Так, раздумывая на печи, еще одну зиму осилил. Но к весне-то вдруг и ослаб.
И сам не понял, испугался он оттого или обрадовался: и помирать не хотелось,
и от жизни устал. Тут и хворь не задержалась, скрутила старика впервые в
жизни, и память совсем подвела, поэтому все мысли перепутались. Встать с
печи, оказалось, дело непосильное, а до двери дойти о том вообще лучше не
помнить, ибо до двери старику полдня идти. Ко всему еще такая беда: помощи
ждать неоткуда. Один ведь старик ни роду, ни племени.
На дворе уж солнышко пригревало, по-весеннему щебетали птицы, быстро таяли
снега.
И подумал старый Ласка, что пройдет недуг. Весна, набиравшая силы, сулила
надежду старику. Но дни сменяли друг друга, а недуг не отпускал. Тогда понял
Ласка, что до лета ему не дотянуть, а весна, уже уверенно вступившая в свои
права, его последняя весна. Захотелось старому Ласке напоследок испить
березового сока и уж затем с жизнью распрощаться.
Последние силы свои собрал, слез с печи Ласка, нащупал посох в темном углу и
вышел на свет.
Недалеко от избушки старика на высоком берегу реки росла молодая береза. Да
такое это чудное было деревце стройное, с берестой нежно-розовой, с пышной
летом кроной. Как бывало ветерок подует будто оживало деревце, будто
говорило человеческим голосом о своих печалях и радостях. И как будто не
деревце то было вовсе, а девушка, грустящая над рекой.
Вот к той березке и направился старый Ласка сока испить, с жизнью
попрощаться. Подошел, ствол погладил, надрезал ножом молодую кору и припал к
надрезу сухими губами да березку обнял.
Но не успел Ласка сока отведать, не успел уста оросить. Вышла из деревца
прекрасная Вила богиня молодая в убранстве из трав и цветов. Глазам не
поверил старый Ласка, даже отшатнулся в страхе. Но взяла его за руку Вила,
успокоила, а потом и говорит тихим голосом такие слова:
Никому до сих пор не удавалось разбудить меня так крепко и сладко я спала.
Но ты поцеловал меня так нежно и приятно, что я проснулась. А теперь думаю,
поцелуй твой был прощальным я ощущаю горечь на губах. Почему?
Стар уже я, вздохнул Ласка. Уходить собрался.
Улыбнулась Вила:
На твой горький поцелуй отвечу сладким...
И обняла юная богиня немощного старика, и одарила его нежным-нежным, сладким
поцелуем. Ох, и закружилась голова у Ласки, едва не упал, да березка
поддержала. И все чудилось старику, что не девушки он слышал голосок, а
шелест молодых листочков, казалось, не богиня прекрасная ему уста ласкала, а
трогал их вешний ветерок. Прилив сил ощутил старый Ласка. Будто снега комок
под солнышком, растаял недуг. Плечи, грудь внезапно легкостью налились,
перестали дрожать колени; сердце забилось трепетно. И пленила Ласку любовь.
Однако совестно стало ему. Отстранился от девушки Ласка и говорит:
Стар уж я с красными девицами миловаться.
Засмеялась прекрасная Вила:
Глупый, в зеркальце посмотри. Забрось в реку свой старый посох...
Тут дала Ласке прекрасная дева серебряное зеркальце. Поглядел Ласка в него и
увидел себя молодым: ни морщиночки, ни сединочки; глаза ясные-ясные, совсем
не выцветшие, кожа нежная, розовая, щеки округлые, волосы шелковистые, губы
красные, зубы ровный жемчуга ряд...
Не дала Вила Ласке опомниться, увлекла за собой, в лес побежала. Такая
веселая была. Резвилась в темных дубравах, песни распевала в золотых
сосновых борах, тащила Ласку миловаться в таинственных ельниках. Но грустила
в березовых рощах...
Выбегала прекрасная Вила в поля, кружилась под солнышком. Из цветов полевых
венки сплетала, украшала цветами любимого.
От любви обезумел Ласка. Про все забыл: про избушку свою, про пашню и сад,
про добрых соседей. Целыми днями в лесу пропадал и ночами из леса не
выходил. Пашней ему были сладкие коренья, садом душистые ягоды, домом сень
вековых деревьев, а добрыми соседями звери и птицы лесные. И одет он был в
травы и цветы, спал во мхах и росой, как водится, умывался, воду пил из
журчливых ручьев. И жизнь его была любовь!
Быстро летние деньки бежали, скоро кончались ноченьки. Все реже заходила
прекрасная Вила в темные дубравы, все тише были песни ее в золотых сосновых
борах, в ельниках таинственных печалилась дева, в рощах березовых грустила.
Да все чаще выходила к своей березке, что стояла одиноко на высоком берегу
реки.
Подмечал все эти перемены Ласка, но ничего не говорил. Он только сильнее
любил Вилу грустную, чем Вилу веселую. Он выводил ее в поля золотые
пшеничные, он брал на руки ее и под солнышком кружил; колоски налитые,
колоски зрелые ей в длинные волосы вплетал.
Но вот кончилось лето и будто подменили Вилу. Куда девалась ее прежняя
веселость! Тиха, печальна, молчалива... Все сидит у лесного ручья, в его
водах студеных белые ножки мочит, вздыхает.
Скоро желтые листья посыпались с деревьев, обнажились черные ветки. Зарядили
дожди. Вила стала бледна, угрюма и уж никак не отвечала на любовь Ласки. А в
один из дней и говорит она:
Ты прости меня, добрый Ласка! Прости печаль мою и угрюмость. Но ничего с
собой поделать не могу. Такова уж моя природа! Весела, легкомысленна я
весною, безотрадна осенью.
Легонько провела она по шелковистым кудрям Ласки, поцеловала его холодно,
оставила горечь на губах. Еще так сказала:
Завтра на заре пойдет по округе Хозяин Леса. Будет он повсюду зорко
смотреть, будет хорошо слушать. Будет Хозяин порядок наводить. Если меня
здесь с тобою увидит, то не жить более твоей Виле. Поэтому нужно мне сейчас
уйти. Ты же не тоскуй, с весною новой приходи к березке в тот же день,
разбуди меня нежным поцелуем. Будет снова весела, легкомысленна и
звонкоголоса Вила. Буду крепко тебя любить, буду украшать цветами. И опять
вспомнишь мою любовь!..
С этими словами поднялась Вила с холодной земли, печально взглянула на
любимого, слезинку обронила и в березку вошла.
Целую ночь просидел возле березки Ласка, а на заре увидел Хозяина Леса. Был
тот Хозяин издалека похож на человека, а когда приблизился, разглядел его
внимательнее молоденький Ласка: был он деревянный, снизу покрыт корою
толстой, сверху облеплен листвою багряной и желтой, вместо глаз угольки,
вместо ушей шишки, руки сучья с крючками, ноги корни толстые.
Пробежал мимо Ласки Хозяин Леса, не заметил человека, а березку приметил,
поглядел на нее холодно, фыркнул злобно; рукой сучковатой махнул, поднял
ветер, свистнул ветер закружил, холодный, сырой, пронизывающий ветрище.
Засыпал листвой березку. И Ласку, что сидел под ней, засыпал.
Убежал Хозяин Леса, а за ним и снег повалил. Выбрался Ласка из-под листвы и
по первому снегу вернулся домой в избушку свою темную, неуютную, пустую.
Очень одиноко стало Ласке. Лег он на лавку широкую под маленьким оконцем и
три дня и три ночи лежал, не поднимаясь. Одну только думу думал: скорей бы
кончилась зима, скорей бы вышла к нему Вила.
Между тем по деревне пошла молва, будто исчез неведомо куда старый Ласка еще
по весне пропал. А поздней осенью, говорили сельчане, поселился в ничейной
избушке парень молодой. Да такой раскрасавец, что, увидя его, все невесты
местные с ума посходят. И еще говорили: зовут этого молодца тоже Лаской вот
ведь как в жизни бывает!
Как прошел этот слух, так не скучно стало невестам. Поначалу все мимо
избушки прогуливались, будто невзначай проходили. Да рядились все в лучшие
одежды, шубки дорогие надевали, цветастые платки повязывали. Гуляли
поблизости, громко смеялись будто праздник какой. Все внимание привлекали.
Но не привлекли внимания. Лежал Ласка на лаве и печально смотрел в потолок.
Тогда стали девицы к нему во двор захаживать. Тоже как бы невзначай, за
мелочью какой-нибудь: то топор попросить по-соседски, то соли щепоть, то
угольков на растопку.
Разглядели молодца, стали зазывать на посиделки. Вначале все отказывался
Ласка, очень нелюдимый был, но однажды опостылело одиночество и согласился
парень с девушками пойти, хоть немного от тоски своей развеяться.
И развеялся. Зимние вечера долгие. За лучиной потрескивающей, за песнями
длинными, за бесконечными сказками, за волнующим вниманием девиц красных,
кои были совсем не дурны, начал Ласка потихоньку забывать Вилу. Вечер за
вечером, неделя за неделей. Девицы к Ласке все ближе подсаживались, что-то
нашептывали ему, в уши жарко дышали. А одна из них по имени Любаша,
быстроокая и сметливая, больше всех преуспела, окрутила молодца, о себе
думать его заставила. Скоро уж взгляды Ласки на себе ловила, на подружек со
значением посматривала. И отсаживались от парня подружки, счастливой
сопернице дорогу уступали. Бедная Любаша!..
Поженились к Рождеству, от родителей Любашиных отделились, стали своим
хозяйством жить. Жена умна, муж работящий. У нее в руках дело спорится, у
него в руках работа горит. Чем не жизнь!
Месяц прошел. Все глядели на них, радовались. Второй пошел месяц, начались
разлады. Ни с того, ни с сего загрустил Ласка. Стал все чаще в свой домишко
уходить, из окна на березку любоваться. Бедная Любаша!..
Это близилась весна, это вспомнил прежнюю возлюбленную Ласка, припомнил
обещание ее весною вернуться. И, словно околдованный, уже только о том и
думал. На Любашу не глядел, никакой работы не делал. Ежели кто корил его, на
того злобно фыркал; ежели кто Любашу жалел, над тем Ласка насмехался. Будто
подменили человека, будто вселилась в него нечистая сила. Не ел, не пил, все
на лавке лежал, уставившись в потолок невидящим взором. А может, заболел...
Пожелтел, иссох; щеки ввалились, скулы раздались.
Мучили Ласку мысли о неверности его, о том, что быстро он Вилу забыл, едва
поманили красные девицы, едва мягким плечиком прижались, едва шепнули на
ушко словцо нежное, он и растаял. Лежал на лавке под окном, не спал, не
дремал Ласка, а видел воочию прошедшее лето: и темные дубравы, и золотые
боры, и таинственные ельники, и Вилу, лесную царевну, порхавшую бабочкой
между стволов. Закрывал глаза, вздрагивал Ласка; слышал, кто-то венок на
чело ему надевал, видел, Вила, любезная сердцу, васильки и ромашки сплетала,
осыпала цветами лицо его; из травинок невиданные ткани красавица ткала и на
Ласку, милого сердцу, покрывала набрасывала. А может, саван?.. Вздрагивал
Ласка, открывал глаза.
Так не долго продолжалось. Однажды поднялся Ласка со своего ложа, слова
никому не сказал и ушел из избы в снег, в метель. Никто не бросился за ним:
уж не раз уходил. Думали, вернется.
Однако не вернулся Ласка, совсем пропал. Искали его неделю и с собаками, и с
факелами; и звали его, и аукали. Плакала Любаша. Все леса обошли в округе:
темные дубравы, золотые боры, таинственные ельники. Все овраги обшарили,
обыскали берега рек. Нет, и как и не было Ласки в этих местах! Сгинул!
Забрала нечистая сила! Как появился тишком, так тишком и пропал! Не ладно
все, не по-людски...
А отыскался Ласка весной. Снова солнышко пригрело, почернели, осели
затяжелевшие сугробы, зажурчали под ними ручейки. Когда совсем растаяли
снега, нашли люди на высоком берегу реки замерзшего старика. Пригляделись к
нему и узнали того самого Ласку, что жил неподалеку, того, что уж не помнил,
сколько ему лет. Лежал старик ничком на мокрой земле и костлявыми иссохшими
руками обнимал ствол молоденькой березки.
Покачали сельчане головами: где носило старика?
А молодого Ласку так и не отыскали...
Помолчала минутку тетушка Марья Дивовна, вздохнула:
Вот, любовь... Вот и неверность... Живите счастливо, дети. Умейте довериться
разуму, умейте на сердце положиться. И пусть не узнать вам измен. Пусть
любовь не иссякнет, едва начавшись. И пусть все приходит вовремя: и
рождение, и слава, и смерть. А любовь пусть живет всегда: и в рождении, и в
славе, и на смертном одре. Тогда проживете счастливую жизнь и не познаете
одиночества.
Как печально! сказал Добрыня. Любовь и смерть ходят рядом.
А Настасья-краса заторопилась, про свою уютную горенку вспомнила, старушку
благодарила:
Пир за пиром мы посетили, тетушка, много угощений перепробовали. Однако
лучшее угощение ваша сказка!..
|