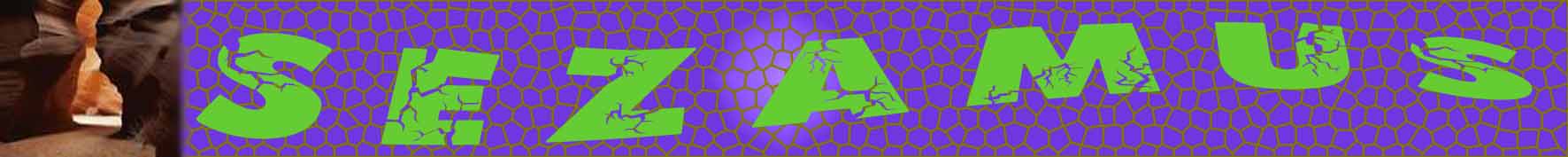|
| |

Мне не придано тут ездить
На святую Русь,
Мне позволено тут ездить
По горам
да по высокиим...
На тых горах высокиих,
На той Святой горы,
Был богатырь чудный,
Что во весь же мир он дивный,
Не ездил он на святую Русь,
Не носила его да мать сыра земля.
.
|
|
|
 |
|
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОКОЛЬНИЧЕК |
Однажды отправились Илья Муромец и Добрыня Никитич в чистое поле – устали
от бесконечных княжеских пиров, от бесед застольных, от скоморошьих шуток и
озорства, от боярских и купеческих свадеб, от шума улиц и торговых подворий
устали; захотелось Илье и Добрыне, стародавним друзьям, богатырям-братьям,
тишиной насладиться и бескрайним простором порадовать глаз, захотелось
гусей-уточек пострелять, а если повезет – сразиться с чужеземным
нахвальщиком-поединщиком, дерзнувшим пробраться в русские земли.
Далеко в чистое поле заехали богатыри – так далеко, что этих мест и
припомнить не могли; в этих местах они как будто и не бывали. Под вечер
остановились. Раскинули на холме белый шатер, у входа в шатер сели ужинать.
Чистым полем любовались, наслаждались духом степных трав и цветов, вели
неспешную беседу, вспоминали былые подвиги. Так до полуночи сидели богатыри,
словно серебром, облитые полнолунным светом, – звездами любовались, которых
насыпано было в небе, как песка на земле... Подвиги перечисляли, сбились со
счету, ибо подвигов было не меньше, чем звезд.
Рано утром проснулся Добрыня Никитич, старшего брата не стал будить. Один
пошел пострелять гусей-уточек.
Спустился Добрыня с холма, набрел на степное озеро, в камыши-осоку вошел, а
тут глядит – полетели над ним серые утицы да сизые селезни. Быстро Добрыня
стрелочку пустил, но плохо прицелился второпях – мимо утицы просвистела
стрелочка. Пока вторую стрелу Добрыня доставал, птиц уж в небе как не
было...
Раздосадованный Добрыня топнул ногой, бросил на землю лук и стрелы. Вдруг
слышит: смеется кто-то у него за спиной. Оглянулся Добрыня Никитич...
Всадник на берегу озерца. Молодец безусый – глядит в глаза, не сойдет с
коня, не поклонится старшему, имя свое не назовет. Насмехается; русскими
богатырями еще не учен, не знает приличий... Дерзкий иноземец: лицо белое,
глаза черные, брови – как изогнутые луки.
У Добрыни руки зачесались – этого невежу проучить.
А незнакомец знай себе посмеивается:
– Мне говорили: лучшие в свете русские богатыри. Еще говорили, что есть на
Руси Добрыня Никитич – самый меткий стрелок. На этого увальня глядя, думаю,
что не Добрыня передо мной, а какой-то мужик-деревенщина, лучше знающий
грубый плуг, нежели тонкое стрелковое искусство.
Очень не понравились Добрыне эти слова:
– Стрелку из колчана доставал, перстнем за колчан зацепился, на мгновение
всего опоздал. Да то не беда русскому доброму молодцу, что разок
промахнулся, а беда молодцу иноземному, что его за дерзкий нрав сейчас учить
будут. Слезай-ка, мил-друг, с высокого коня. И схватимся, если не боишься...
Опять засмеялся заезжий удалец:
– Чему-чему – а науке я всегда рад! Многие прославленные богатыри меня
вежливости учили, и теперь их ученые косточки по всему белу свету
неприбранные лежат.
С этими словами спрыгнул витязь с коня.
На язык иноземец боек был, но виду – совсем не богатырского. В плечах не
широк, на голову ниже Добрыни Никитича; не широк и в кости. Но, должно быть,
из знатных он был витязей – царевич или королевич – наряден; шлем – красивый
стальной шишак, покрытый чеканным узором, посеребренный; шею и плечи
прикрывают бармицы; тонкой работы кольчуга серебром блестит – что у рыбы
чешуя; сапоги – красного сафьяна, на них пряжечки и шпоры золотые...
Сошлись Добрыня и незнакомец на берегу озерца, за плечи друг друга взяли,
друг другу глянули в глаза. Глядит Добрыня: у чужестранца насмешливые глаза
и нет в них страха.
Говорит иноземный богатырь:
– Я узнал тебя, Добрыня Никитич. Про подвиги твои много слышал. Но больше не
совершать тебе подвигов. Останешься здесь лежать. Глаза тебе выклюют
залетные вороны, а косточки – мыши по камышам растянут...
Усмехнулся Добрыня Никитич этим дерзким словам, решил надавить изо всей силы
богатырской на плечи молодцу – чтобы вдавить его в грязь по самую грудь, по
самые бармицы; надавил, да неловко ногу поставил, – скользнула по грязи
нога, и упал богатырь навзничь.
Витязь чужеземный ловок был – в мгновение ока у Добрыни на груди оказался;
нож булатный из-за голенища выхватил и над Добрыней занес.
И сказал чужеземец тихим голосом:
– Молись перед смертью, Добрыня Никитич, славный русский богатырь. Даю тебе
время для короткой молитвы... Для длинной молитвы у тебя времени нету...
Некуда деваться: глядя в насмешливые черные глаза, глядя на нож сверкающий,
сказал слова молитвы богатырь, с жизнью попрощался, а потом спрашивает
лихого молодца:
– Кто ты, чужестранец? Из каких краев? Не хочешь ли открыться – что за новый
богатырь победил доселе непобедимого?..
Ответил молодец, удачливый поединщик:
– Если б ты не спрашивал, Добрыня, так и не знал бы, от кого принял смерть.
Но уж коли спросил, знай: вовсе не богатырь тебя одолел и на спину уложил,
не богатырь тебе сейчас грудь пластать будет и сердце доставать. А победила
тебя, прославленного воителя, девица – поляница удалая. Не тебя первого
победила и не тебя последнего...
Очень удивился этим словам Добрыня:
– Как же тебя, девица, звать-величать?
– Ежели имя мое на ваш язык перевести, то звать меня – Златыгоркою... Шатер
мой раскинут за Сафат-рекой, а дом мой – повсюду, где мне хорошо; а хорошо
мне там, где из непобедимого сердце выну, – тут призадумалась удалая
поляница и говорит: – Поостыл мой гнев, как с тобой разговорилась. Да и
молитва твоя уж очень была страстная. Пропала охота тебя жизни лишать. Если
о пощаде попросишь, Добрыня, если в ножки мне поклонишься да с сапожек моих
сафьяновых бородой своею пыль сотрешь, – так и быть, не стану пластать тебе
белую грудь, не стану вырезать сердце...
Горько усмехнулся Добрыня Никитич:
– Никогда еще святорусский богатырь ни у кого пощады не просил, ни у кого в
ногах не валялся. А если одолела ты меня, поляница заезжая, видать, планида
моя такая – смерть от девицы принять. Достаточно тебе куражиться надо мной,
достаточно меня позорить, бей ножом в широкую грудь, доставай горячее
сердце...
В это время Илья Муромец пробудился ото сна, огляделся – нет в шатре
Добрыни Никитича. Прислушался богатырь... Слышит – будто стрела где-то
засвистела, чуть погодя – будто говорит кто-то. Вышел из шатра Илья, –
глядь... Лежит младший брат Добрыня на берегу озерца, в грязи лежит, в
спутанной осоке, борода всклокочена, торчком; а на нем лихой добрый молодец
верхом сидит, нож над головой заносит злобный поединщик; у поединщика того
удачливого лицо бело, а глаза огнем горят, нож булатный сверкает – вот-вот
Добрыне распластает грудь...
Серым волком Илья Муромец на поединщика дерзкого налетел; кулачищем в плечо
ему двинул – кубарем покатился по траве чужестранец-молодец; нож булатный в
одну сторону упал, шлем-шишак – в другую... Илья Муромец Добрыню за руки
взял, на ноги поставил.
Добрыня же Никитич, кажется, спасенью своему не рад. Качает головой, в
глазах печаль:
– Ты, Илья, от смерти меня спас. Но от позора Добрыню никто не спасет. А чем
с позором век доживать, лучше, брат, убитым быть. Возьми этот нож, Илья, и
ударом точным жизни меня лиши...
– Не пойму я, Добрыня, твои речи. В поединке всякое бывает... Поскользнется
нога иль луч солнца внезапно ослепит... В честном поединке быть побитым не
позор. Позор – бежать от поединка...
А Добрыня все качает головой:
– Не позор быть побитым рукой богатыря-поединщика. Но от руки девицы
поражение принять – считаю за позор великий... Напрасно ты вмешался, брат
Илья.
Здесь оглянулся Илья Муромец на поверженного лихого молодца и увидел, что
никакой это не молодец, а девица-богатырша, удалая поляница без чувств
лежит. Очень удивился Илья, склонился над Златыгоркой – внимательней
рассмотреть.
Поляница эта красавицей была: волосы – черные, как смоль, – в две толстые
косы заплетены, лицо – белым-бело, брови – что изогнутый лук и черны, а губы
– как кораллы, красны; бледный румянец на щеках.
Илья Муромец на руки Златыгорку поднял и говорит Добрыне:
– Не печалься, Добрынюшка, младший брат! От такой красавицы хоть поражение,
хоть смерть принять – для всякого воина честь. И я был бы рад под ножом ее
булатным полежать, – но чтоб хоть разок в глаза ее прекрасные заглянуть. Да,
кажется, уже не суждено! Силу свою богатырскую, дар Святогоров, не рассчитал
– так поляницу ударил, что из нее и дух вон...
Однако ошибся Илья. Увидел – на щеках у поляницы ярче румянец зардел, и
слегка приоткрылись коралловые губы; услышал тихий вздох. А как открыла
глаза прекрасная Златыгорка, – так будто в самое сердце Илье Муромцу
заглянула, и за сердце властно взяла. Закружилась у лихого казака голова,
спутались мысли.
Крепко обняла Илью Муромца Златыгорка и крепко же прижалась к его груди:
– Знаю тебя, богатырь. Ты и есть Илья Муромец. Не узнать тебя трудно. У кого
еще под этим небом такие широкие плечи! У кого еще столь могучая грудь!.. Ты
из всех на свете богатырей первый, кто меня победил. Не буду таиться,
откроюсь: много лет назад я обет дала – кто меня силой или ловкостью
превзойдет, тот и суженый мне. А теперь сам решай, Илья: хочешь ли гостем
моим быть? Хочешь узнать мое гостеприимство? Хочешь любовь мою узнать?..
Тогда сказал Илья Муромец младшему брату:
– Видно, не судьба нам с тобой, Добрыня, ныне уточек пострелять, не судьба
погулять по чистому полю. А поеду я в гости к полянице удалой, отдохну от
ратных дел денек-другой... Ты же, Добрыня, могучий русский богатырь,
киевскому князю от меня кланяйся и, пока я не вернусь, береги отечество.
Был просторен и уютен шатер Златыгорки за Сафат-рекой, и заморские
благовония кружили голову Илье, и еда, какой поляница потчевала гостя, была
вкусна и обильна, и вкусно молоко степных кобылиц, и зеленое вино было
сладко... Но много слаще была любовь, какою Златыгорка Илью Муромца любила.
В объятиях красавицы, в довольстве и блаженстве, в ласках и неге внимая ее
голосу, ее чудным песням, бесконечным сказаниям ее народа, обо всем позабыл
могучий русский богатырь. И там, где, он думал, миг пролетел, день кончался,
а там, где, казалось Илье, день прошел, на самом деле проходил год.
Однажды говорит Илья Муромец:
– Уж пятый день я в гостях у тебя Златыгорка. И еще бы гостил и гостил. Но
нельзя забывать и про долг. Ждет меня служба, которую я оставил. Как там без
меня святорусские богатыри? Как там Киев? Не грозит ли Руси враг?..
Загрустила при этих словах удалая поляница и просила:
– Не оставляй меня, Илья. Или мало я тебя любила? Сильнее, чем прежде, буду
любить...
Но тверд был в решении богатырь.
Тогда открылась ему прекрасная Златыгорка:
– Днями и ночами я молилась своим богам – за тебя, богатырь, и за себя
молилась. А теперь я молюсь и за третьего – за сыночка нашего, коего
чувствую у себя под сердцем.
Ах, как обрадовался Илья Муромец этим словам, подхватил Златыгорку на руки,
стал ее с собой звать:
– В прекрасном Киеве, в моем высоком тереме будем жить; примешь, Златыгорка,
веру православную, в церкви Десятинной обвенчаемся.
Но грустно покачала красавица головой:
– Не могу я, мой добрый богатырь, ни народ свой оставить, ни эти любимые
степи покинуть, ни вере своей изменить.
Огорчился Илья:
– Как же быть?
Ему вот что предложила Златыгорка:
– Как родится сыночек, – быстро богатырь подрастет. Наберет силушку и поедет
в русскую землю отца искать. Он будет красивый и славный воин; у него будут
доброе сердце и разумная голова. Как сынок наш решит, так и мы с тобой
примем. Если крестится он в веру православную, значит, и я православие
приму, к тебе в светлый терем приеду.
Одобрил это решение Илья и вот о чем Златыгорку просил:
– Если родится сын, назови его Сокольничком. Буду ехать по чистому полю –
всякий раз, как сокола увижу, про сына вспомню; на охоте соколиной с князем
буду – опять же про сына Сокольничка не забуду... А еще я жеребеночка
вороного подберу. Ты его, Златыгорка, в сытости вырасти – будет нашему
Сокольничку богатырский конь... – снял с себя доспехи Илья Муромец. – А вот
и доспехи Сокольничку в наследство от отца. И копье верное ему оставлю, и
тяжелую палицу, и кольчужные рукавицы, и серебряные стремена, и золотые
шпоры, и – самое главное – оставлю ему вот этот меч. От меча кладенца он
мало отличается – так же тяжел. Пока Сокольничек одной рукой этот меч не
поднимет, пока играючись им не махнет, пока из руки в руку с легкостью не
перекинет, ты его в чистое поле не пускай... – потом снял богатырь у себя с
груди крест православный – большой золотой на три пуда крест. – Это тоже
нашему сыну, Златыгорка, подари. Никто не знает, что с Сокольничком в жизни
приключится, – быть может, однажды убережет его от беды этот святой крест.
Да накажи Сокольничку, чтоб на Русь никогда зла не умышлял, чтоб не ходил
походом на Киев.
С этими словами Илья Муромец трижды расцеловал Златыгорку; тут они и
расстались...
Сначала сильно тосковал Илья Муромец по прекрасной воительнице Златыгорке,
шатер ее долго снился ему; и сама Златыгорка снилась – грустная и кроткая;
то звала Илью Муромца к себе погостить, а то некий заговор произносила:
«Чтоб слова мечтаний наших стали вещими словами...». И он вспоминал о былых
прекрасных мечтаниях, о красоте гордой поляницы, и места себе не находил, и
тянулся для богатыря день, как год. Потом увлекли ратные дела, были
посольские поездки и походы за данями, были пиры и охоты, были годы стояния
на заставах – на порубежье. Притупилась печаль, стали забываться ласки
Златыгорки, стали забываться любимый голос и сам милый облик ее. А порой
думалось: то, что было, – было ли?.. И была ли наяву Златыгорка, удалая
поляница? Был ли шатер за Сафат-рекой?.. Была ли любовь, и было ли
прощанье?.. Но всякий раз, как сокола видел в небе лихой казак, становилось
у него теплее на сердце...
А у Златыгорки в положенный час родился мальчик. И назвала его Златыгорка
Сокольничком. Крепкий это был малыш – богатырское семя. И рос быстро.
Ровесникам его – еще хлебный мякиш, а ему – уже орехи. Сверстники его еще у
мамок на руках сидели, а Сокольничек уж сурков гонял по степи. За год
Согольничек вырастал, как иной – за два растет. И сила в нем была
удивительная. Все бы хорошо – и красив рос Сокольничек, и здоров, да нрав в
нем проявился недобрый; не в отца и не в мать. Раздражителен был и упрям,
был злопамятен, неприветлив, часто к старшим неуважителен. Обижал ровесников
своих, обижал и тех, кто много старше. Силой, данной от рожденья, управлять
не мог; бывало пошутит, за руку схватит – а человеку увечье. Приходили к
Златыгорке не раз, жаловались на Сокольничка. Очень печалилась Златыгорка...
Старалась мать сына ученьем занять, ратному мастерству обучала Сокольничка.
Тот был сметлив и ловок, и отличался крепкой памятью, воинское искусство от
матушки-поляницы легко перенимал. Но, случалось, обретенные навыки на новое
озорство употреблял. И опять приходили люди жаловаться, просили Сокольничка
угомонить.
Молилась своим богам Златыгорка – чтоб сын ее поскорей возмужал, чтоб
оставил недобрые проделки, чтоб полезным делом занялся, чтоб образумился...
Двенадцать лет Сокольничку исполнилось, собрался он в чистое поле погулять;
просил у матери благословения.
Открыла Златыгорка большой, окованный медью, сундук, подозвала сына и в
сундук показывает. А там на дне только один меч лежит – красавец меч
богатырский.
Говорит Златыгорка:
– Если ты, Сокольничек, одной рукой этот меч поднимешь, если играючись им
махнешь, если из руки в руку с легкостью перекинешь, тогда иди гулять в
чистое поле.
Как увидел Сокольничек меч, очень обрадовался, разгорелись глаза. Тут же за
рукоять схватился, тянет к себе. А меч как лежал, так и лежит, – даже с
места не сдвинулся.
Мать усмехнулась и закрыла сундук.
Два года Сокольничек на тот сундук косился, два года камни тяжелые поднимал,
два года бычков за рога опрокидывал, хотел поскорее набраться сил. Когда
четырнадцать ему исполнилось, опять стал у матери проситься в чистое поле
погулять – поискать себе достойного поединщика.
Златыгорка удивленно бровью повела, сундук отомкнула.
Схватился Сокольничек за заветный меч, но только двумя руками и сумел его
поднять; не смог ни взмахнуть им играючись, ни из руки в руку перебросить.
Еще на два года закрыт был сундук; пылью покрылся замок железный.
Сокольничек бычков на плечах поднимал, Сокольничек на море один водил
большой невод, Сокольничек сталкивал в реку скалы; Сокольничек брови сдвинет
– в страхе разбегаются чужие молодцы, Сокольничек кулаком по земле стукнет,
и долго дрожит земля... Опять собрался в чистое поле юный богатырь; в
серебряное зеркальце поглядел – над верхней губой пушок пробивается.
Златыгорка ему – свою старую песню:
– Если, Сокольничек, одной рукой этот меч поднимешь, если играючись им
махнешь и из руки в руку с легкостью перекинешь, не буду тебя дома держать,
не буду на замочки запирать, отпущу погулять в чистое поле...
Раскрыли сундук. Сокольничек смеется; мощной десницей заветный меч берет,
над головой его поднимает и так махнет, и махнет эдак – сверкает полукругом
грозная сталь, свистит клинок, в жилах кровь холодит. Смеется Сокольничек,
выходит из дома, меч перекидывает из руки в руку; и послушен юному богатырю
меч. Огляделся молодец – хочет испытать грозное оружие. Камень в три аршина
во дворе лежал. Ударил по нему мечом Сокольничек – на тысячу осколков
раскололся камень, во все стороны брызнули искры. Еще раз ударил, и
превратились осколки в песок.
– Ах, погуляю!.. – смеется Сокольничек. – Ах, поединщика найду!..
А Златыгорке грустно стало, никак Сокольничка не поймет; должно быть, забыла
удалая поляница, как сама много лет назад в чистое поле рвалась, поединщика
искала... и судьбу свою нашла.
Достала Златыгорка из потайного места верное богатырское копье, из глубоких
сундуков стальные доспехи и тяжелую палицу достала, и кольчужные рукавицы, и
серебряные стремена, и золотые шпоры:
– Не смогу тебя больше, Сокольничек, дома удержать. Бери то, что отец тебе
оставил и что только тебе принадлежит. Вижу: вырос ты и возмужал, сумеешь и
жизнь, и честь свои защитить, сумеешь завоевать славу...
А Сокольничек не очень-то мать слушал, доспехи быстро надел – впору
оказались доспехи; палицу подхватил – как раз по руке богатырской палица; а
копье – будто малая тростиночка; кольчужные рукавицы широки – словно для
Сокольничка выкованы.
Златыгорка все говорит:
– Если славы не завоюешь, – не беда; а беда, если честь богатырскую уронишь.
Не обижай, сын, слабых, не обижай безоружных; слушай, что старшие говорят,
покровительствуй младшим; если можно помириться, Сокольничек, мирись, если
же нет, надень доспехи и борись; меч без нужды не обнажай, а если обнажил,
то уж бейся до победы; трапезу с другом всегда дели – даже если случится
скудная трапеза; к тому, кто превозносит тебя до небес, спиной не
поворачивайся; тому, кто говорит, что от тебя ничего не ищет, не верь; не
хочешь видеть себя бедным, не ищи дружбы у богатых; да и за богатством не
гонись – проживешь спокойно; в долг не бери – будешь независим; над чужой
верой не смейся, в своей вере не усомнись... Еще помни: разумная голова –
большое богатство; неразумный человек подобен горсти грязи; но главный в
жизни советчик – доброе сердце...
Сокольничек матушку вполуха слушал, стремена да шпоры в руках вертел:
– А это зачем, коли нет у меня богатырского коня?
Вздохнула Златыгорка:
– Есть у тебя богатырский конь... Его подобрал тебе еще батюшка –
жеребеночком подобрал. А я кормила жеребеночка овсом лучшим, пшеницей
белояровой, поила ключевой водой, купала в росах, холила...
Она отвела Сокольничка на заливные луга. А там конь вороной пасется –
огромный, широкогрудый, грива до земли, в глазах искры горят, из ноздрей дым
валит; дьявол, а не конь...
Сокольничек конем любовался, уздечку на него набрасывал.
Златыгорка говорила:
– Истинному богатырю мало силу иметь, мало – иметь доспехи и оружие, мало и
коня могучего иметь. Для истинного богатыря главное – иметь благородное
доброе сердце. Не будь высокомерным, мой сын, а будь великодушным.
Высокомерие совращает с пути истины, а великодушие смоет пятно всякой вины.
Помни об этом, Сокольничек...
– Помню, помню... – смеялся Сокольничек, оглаживал коню крутые бока. – Ах,
хорош!.. Хеч! Хеч!..
– Помни и о батюшке своем. Если встретишь его в странствиях, сразу узнаешь.
У него глаза светло-голубые – как северное небо; у него борода бела – как
вершины южных гор; плечи у него широки, как радуга; грудь – бескрайняя
равнина...
– Радуга... равнина... – вторил Сокольничек, коню в зубы глядел, осматривал
копыта.
– Помни о происхождении своем, никогда на Русь зла не умышляй, не ходи
походом на Киев, русских мужиков не обижай, не останавливай торговых
караванов русских, не разоряй русских сел, не жги церквей православных, не
ищи смертного поединка с русскими богатырями...
– Хорошо... с русскими богатырями... – посмеивался Сокольничек, чесал коню
спину.
А потом вдруг как вскочит Сокольничек на коня – конь необъезженный на дыбы.
Но Сокольничку было не впервой объезживать лошадей; опытный наездник так
сжал пятки, что у вороного ребрышки затрещали. Мигом успокоился конь,
признал хозяина.
Возликовало у Сокольничка сердце, тут же и собрался он коня в чистое поле
погнать, склонился поцеловать мать на прощание, а она ему протягивает
золотой крест – тот богатырский крест, что весом в три пуда:
– Быть может, однажды убережет тебя от беды этот святой крест...
Подхватил Сокольничек этот крест православный и пустил коня галопом в
раздольное чистое поле; вырвался, наконец. Скачет конь богатырский – земля
на тридцать верст дрожит и на десять верст гром гремит; пыль из под копыт
столбом, а из ноздрей черный дым валит; на траву конь вороной дышал – траву
опалял, и превращалась в золу трава.
Слова прощания Сокольничек уже издали прокричал...
На восточной заставе три года стояли богатыри: Илья Муромец, старый
казак, Добрыня Никитич, лучший в свете стрелок, да Алеша Попович, весельчак
отменный. Глядели вдаль недреманым оком, вслушивались в тишину. Мимо них
серый волк незамеченным не проскочит, черный коршун неуслышанным не
пролетит, не проползет коварная змея. И восточное русское порубежье далеко
стороной объезжали чужеземные витязи – нахвальщики-поединщики, и степные
орды кочевали в стороне, а цари, эмиры, императоры, каганы и ханы крепко
помнили записи, что с киевским князем подписали.
Как-то сидели на высоком холме богатыри, каждый свою думу думал, каждый в
свою сторону глядел. А Илья Муромец, старый казак, вдруг голову набок
склонил, прислушался. И говорит:
– Слышу я, будто где-то гром гремит... Не пойму: небо-то чистое, на нем ни
облачка. Ты, Добрыня Никитич, помоложе будешь, слух у тебя получше. Что там?
Послушай...
Прислушался Добрыня Никитич, лучший в свете стрелок, голову набок склонил.
Потом говорит:
– То, Илья Иванович, не гром гремит, а богатырский конь по полю бежит. Да,
слышу: на тридцать верст земля сотрясается... Но не пойму: конь-то
богатырский бежит, а сам богатырь где?.. Ты Алеша Попович, помоложе меня
будешь, слух у тебя, понятно, получше. Кто там нам загадки загадывает?
Послушай...
Прислушался Алеша Попович, первый в свете весельчак и затейник, голову набок
склонил. И вот что говорит:
– Верно, братья мои старшие, скачет конь по раздольному чистому полю – прямо
к нам спешит. А на том коне богатырском могучий богатырь сидит...
Не поверили старшие братья:
– Как же ты богатыря услышал?
– А он песню поет... – еще прислушался Алеша. – И поведаю вам, братья,
нехорошую он песню поет. Слышу в его песне вот какие слова: «На все четыре
стороны я умышляю зло; никто мне в этом не помеха. Так и на Русь злоумышляю,
на Киев походом иду, русских мужиков обижать буду, торговые караваны русские
остановлю, поразоряю русские села, православные церкви пожгу, поищу поединка
с русскими богатырями и докажу им, что они смертны...».
Покачал головой Илья Муромец:
– Давно я таких отчаянных нахвальщиков не слышал!.. Должно быть, молодая
поросль – неученая еще. Ничего не поделаешь, придется проучить.
Просил его Алеша Попович:
– Дозволь мне позабавиться, старший брат, дозволь покуражиться. Уж три года
скучаю... Быстро молодца проучу.
Согласился Илья Муромец, старший брат; не возражал Добрыня Никитич, брат
средний.
Вскочил на коня Алеша Попович, навстречу заезжему молодцу поскакал. Подъехал
ближе, глядит – пыль по степи столбом; и едет раздольным чистым полем
молодой богатырь: важный и величественный; глаза, как южная ночь, черны,
лицо, как северные снега, бело, плечи – широки, как радуга, грудь –
бескрайняя равнина. Едет богатырь, дерзкую песнь поет, а Алешу Поповича даже
не замечает.
Вихрем налетел Алеша на наглеца, острое копье вперед выставил. И ударил
заезжему поединщику в щит. Даже не шелохнулся молодец – как ехал, так и
ехал, песню пел. От ответного же удара копьем Алеша Попович из седла
вылетел, распластался по земле.
На заставу вернулся Алеша, ушибленную грудь тер, и вид у него был понурый.
Все без слов поняли старшие братья.
Добрыня Никитич у Ильи Муромца просил:
– Дозволь мне, старший брат, проучить того дерзкого нахвальщика. Давно уж я
никому косточки не ломал – все больше приходится сражаться в шахматы. Пора
поупражняться в искусстве ратном.
Согласился Илья Муромец, и Алеша не возражал.
Поехал Добрыня Никитич навстречу заезжему молодцу. Ближе подъехал, услышал
грозную песнь:
– «Все заборы в стольном Киеве повалю, церкви православные на дым пущу,
иконы чудотворные брошу в реку, кресты медные утоплю, на самом видном месте
Идола поставлю...».
Ураганом налетел Добрыня Никитич на дерзкого молодца, тяжелой палицей
чугунной ударил в щит. Загудел щит, заклепки из него повылетели, а богатырю
чужеземному, удачливому бойцу – хоть бы что. Ответным ударом он Добрыне
Никитичу и щит проломил, и пребольно плечо ушиб; выбил доблестного Добрыню
Никитича из седла. А сам, знай, дальше едет, песню поет.
Вернулся Добрыня Никитич к заставе, глаз на друзей не поднимает, виновато в
сторону глядит, потирает ушибленное плечо, из бороды пыль и сор вытряхивает.
Все без слов понял Илья Муромец:
– Что ж, значит, мой пришел черед учить молодца уму-разуму, вежливости учить
и почитанию старших.
Выехал он навстречу иноземцу-богатырю, а как поближе подъехал, вот какую
дерзкую песнь услыхал:
– «Всех богатырей русских перещелкаю, как орешки. Алеше Поповичу грудь
пробью, Добрыне Никитичу переломаю плечи, Илье Муромцу, старому казаку,
голову отрублю. Кости их искрошу, потом в муку перемолю и развею по ветру.
Не останется от доблестных и следа. С князя Владимира шкуру спущу, а молодую
жену его Апраксию прекрасноликую с собой в степь уведу. Будет мне Апраксия
кобылиц доить, будет мне ноги мыть и широкую спину чесать...».
Очень не понравилась Илье Муромцу эта песнь. И решил он, что не пощадит
наглеца, что нахвальщик этот за слова свои ответит в полной мере. Стал Илья
Муромец поединщика молодого поджидать, а пока тот ехал неспеша, говорил
богатырь своему коню:
– Ты меня, Сивка-Бурка, не подведи. Послужи верой и правдой, как до сих пор
служил. Я с молодцом этим справлюсь – многих уж правил молодцов. А ты,
косматенький, справься с его молодым конем. Видишь, дьявол вороной глаз
косит, зубами скрежещет; в глазах, смотри, искры горят, из ноздрей дым
валит... – поджидал поединщика русский богатырь, гладил гриву коню. –
Одолеем молодца, не горюй, косматенький. Сам ведь знаешь – не в бою мне
смерть писана, не от стрелы, не от копья, не от меча, не от палицы; а
суждено мне умереть на постели – в молитве и смирении* (* есть исторические
свидетельства, что Илья Муромец действительно прожил до глубокой старости;
последние годы жизни он провел в одном из киевских монастырей, где и умер;
был погребен в киевских пещерах; до сих пор в некоторых храмах хранятся его
мощи). А ты хорошо сделай свое дело, косматенький.
Совсем уж близко подъехал чужеземный богатырь. Стройный и нарядный; доспехи
на солнце так и сверкают. Илье Муромцу в глаза поединщик глядит, глаз не
отводит; презрительно губы кривит, в сторону не сворачивает.
Говорит молодцу русский богатырь:
– Что это ты, удалец, в сторону не сворачиваешь? Что это перед старшим не
кланяешься, а дерзко в глаза глядишь? Почему шапку не снимаешь и не желаешь
доброго здравия, почему в золотую киевскую казну не бросаешь алтын? Или не
говорили тебе родители, как нужно правильно по чистому полю ездить?..
Засмеялся молодец:
– Горазд ты, старый, вопросы задавать, да мне отвечать недосуг. Коли жизнь
тебе дорога, поскорее косматого своего гони прочь, – поведу плечом, зашибу
ненароком.
Помрачнел Илья Муромец, приготовил копье. И заезжий поединщик копье
приготовил. Прошло время говорить речи, пришел час вершить ратные дела.
Сорвались с места богатырские кони, в мгновение ока одолели версту,
сшиблись, друг другу в грудь копытами ударили. А могучие всадники ударили
друг в друга копьями. Подобно слабым тростинкам, сломались копья; загудели и
треснули крепкие щиты, ударов не выдержали, посыпались обломками на траву.
Но всадники-великаны удержались в седлах. Изумленно друг на друга
посмотрели, в стороны разъехались.
Приготовили палицы тяжелые. У Ильи Муромца палица – в девяносто пудов; и у
его противника палица – не легче. Разогнались опять богатырские кони,
копытами ударили, грызться взялись. А всадники со всего маху ударили
палицами. Но одна на другую нашли свинцовые палицы – от удара расплющились,
гром загремел; обломились рукояти...
Снова разъехались богатыри. Тяжело дышали их кони. На сотню верст дрожала
земля, из нор выскакивали испуганные лисы, переполошенные птицы стаями
кружили в небесах.
Достал Илья Муромец меч кладенец, и противник его достал похожий меч. И
сшиблись всадники в третий раз: не жалели коней, не жалели стали, себя не
жалели. От ударов могучих крошились клинки – такая закипела работа; искры
сыпались – слепили глаза. Тяжело поединщики дышали, никто не хотел уступать.
Очень крепкие были мечи, у рукоятей не обломились. Но от ударов сильных так
заныли руки, что выронили клинки и вскрикнули разочарованные богатыри.
Спешились оба, схватились врукопашную. И час, и два силой мерялись. Воители
славные стоили друг друга. Скоро день прошел. Но боролись богатыри и ночью,
им звезды светили. Земля сотрясалась, дрожал ковыль. Гнев поединщиков
остывал, потом опять разгорался; дышали хрипло, пот тек ручьем. Друг в друга
ударялись грудью, скрипели латы. Ногами крепко упираясь, по щиколотку в
землю уходили богатыри...
Так боролись они три дня и три ночи. И дольше бы боролись, не растратили
богатырские силы; но наутро четвертого дня вдруг подвернулась у Ильи Муромца
нога, и упал богатырь навзничь. Поединщик молодой времени не терял, злым
хищным зверем ему на грудь прыгнул, из-за голенища острый нож достал и уж
ударить собрался, однако мало ему показалось своего противника просто
победить, хотелось еще над ним покуражиться.
И говорит молодой нахвальщик:
– Тебе ли, старому, на заставе стоять? Тебе о душе уже думать нужно, грехи
замаливать... А ежели ты самый сильный русский богатырь, то остальных я
одолею с легкостью. Города и села русские разорю – и про Русь вашу в свете
скоро забудут...
Очень обидны стали Илье Муромцу эти слова. И в мыслях обратился богатырь к
Господу, просил его не оставлять без покровительства Русь и людей
православных, просил Спасителя вступиться за малых и старых, за сирых и
немощных, за церкви и монастыри просил.
И должно быть, дошла до высоких Небес его искренняя молитва, вдруг у Ильи
Муромца сил втрое прибавилось. Как пушинку, смахнул у себя с груди богатырь
молодого нахвальщика. И сам сверху на него бросился; нож булатный из-за
голенища достал, взмахнул рукой, целя в сердце... Уже ударить был готов
старый казак, но тут почувствовал, что онемело плечо, что стала рука будто
каменная, не послушная воле. Удивился этому явлению богатырь, подумал:
что-то здесь неладно.
И спрашивает Илья Муромец:
– Скажи-ка, молодец: из какой ты земли, из какой орды? Как тебя
звать-величать? Кто твои родители?
Зло глазами сверкая, отвечал ему молодой богатырь:
– Когда я у тебя на груди сидел, то роду-племени твоего не спрашивал, и как
звать-величать – не любопытствовал. Так и ты не спрашивай – бей поскорей,
доставай на свет горячее сердце...
Хотел Илья Муромец так и поступить, да совсем онемело плечо, и рука была
будто каменная. Решил Илья, что такое с ним творится неспроста. И
упорствовал:
– Ты скажи мне все же, добрый молодец, из каких приехал земель, из какой
будешь орды? И как звать-величать, скажи? И кто твои родители?
Тогда сказал чужестранец, нахвальщик молодой:
– Ты меня в поединке одолел, – значит, твое право. Если спрашиваешь, скажу:
я приехал из степи, что за Сафат-рекой, тамошнего я великого племени,
тамошней многочисленной орды. Зовут меня Сокольничком. Матушка моя –
Златыгорка. Дом мой – ее просторный шатер. А отца своего я знать не знал...
Как услышал эти слова Илья Муромец, так затрепетало его сердце и дрогнула
душа; слезы на глаза навернулись.
Он еще спрашивает:
– А скажи-ка, Сокольничек, когда ты из дому уезжал, что тебе матушка на
прощанье давала?
Удивительны были эти расспросы для Сокольничка. Однако отвечал, желанию
победителя подчинялся:
– Давала мне Златыгорка доспехи богатырские, копье и палицу, и меч – как
кладенец, коня вороного давала... Давала и наставления – они обильно лились,
да как-то к делу не приложились...
– А крест?
– И крест давала. Да вот он под рубахой на груди, – показал Сокольничек
глазами. – Как будешь, старик, мне вспарывать грудь, так на крест этот
православный и натолкнешься. Три пуда весом.
Засмеялся Илья Муромец, глаза счастьем засияли. Поднялся с земли и
Сокольничку помог встать. Потом обнял молодца и открылся ему:
– Тебе матушка Златыгорка мои доспехи давала, и копье, и палицу, и меч – как
кладенец... И коня вороного я для тебя выбирал, когда он был еще малым
жеребчиком. А крест трехпудовый, что у тебя на груди, – это мой крест, для
тебя оставленный. А матушка твоя, Златыгорка прекрасная, – моя жена, хотя мы
в церкви и не венчаны. Дом твой – просторный шатер за Сафат-рекой, – много
лет мне снится; и тянет меня к этому шатру, сил нет противиться, да не могу
я службу оставить...
Вспомнил Сокольничек слова матушки и увидел, что, действительно, у этого
богатыря русского глаза светло-голубые – как северное небо; и борода у него
бела – как вершины южных гор; плечи у него широки, как радуга; а грудь –
бескрайняя равнина... И понял Сокольничек, что со своим отцом он три дня и
три ночи бился, и отцом был побежден; понял, что его он унаследовал силу,
увидел, что на него и похож. Однако не было радости в душе, а была обида –
что оставил его матушку этот славный богатырь, и что он, Сокольничек, не
знал отцовской ласки, что безотцовщиной рос, что безотцовщиной его и
дразнили.
А радости Ильи Муромца не было конца:
– Экий ты горячий молодец, Сокольничек! Вижу, что до сих пор после битвы не
остынешь... Идем на заставу, познакомлю тебя со своими братьями,
святорусскими богатырями.
Были удивлены Добрыня Никитич и Алеша Попович, когда увидели Илью Муромца
и иноземного молодца, стремя в стремя едущих к заставе и мирно беседующих.
Но Илья Муромец им сказал:
– Это не нахвальщик чужестранный, а мой сын единородный. И зовут его
Сокольничек. Прошу, братья, его уважением жаловать и доверять ему, как мне
самому.
Добрыня Никитич и Алеша Попович приняли Сокольничка под свой кров и за стол
усадили, но скрыть не могли, что не приняли они его сердцем, – видно, еще
болели синяки и огнем горели ссадины.
Весь остаток дня провели богатыри за обильным столом. Много пили, много ели.
Илья Муромец все радовался, шумел, на Сокольничка, сына единственного,
любовался, песни в радости затягивал, да обрывал, Сокольничка о Златыгорке
выспрашивал, черты Златыгорки любимой в сыне узнавал. Добрыня и Алеша все
больше молчали. Сокольничек немногословен был; ответит коротко и исподлобья
глядит. Не может простить Илью Муромца, что его, сына единородного,
безотцовщиной оставил, лаской отцовской в свое время не одарил...
Когда уж время было заполночь, стали готовиться ко сну богатыри. Добрыня
Никитич тихонько Илье Муромцу и говорит:
– Ты прости меня, старший брат, но я должен сказать. Трудно жаловать
уважением того, кто на тебя исподлобья глядит, кто на доброе слово скуп, кто
косится на меч, что у входа висит... Спи вполглаза, богатырь, за сыночком
единородным присматривай.
Тяжело было слышать эти слова старому казаку, и не стал бы он сдерживать
обиду, кабы у самого не было тревожно на сердце, кабы не болела душа.
Полог в шатре опустили, светильники загасили, легли богатыри спать. Быстро
все уснули. И только Сокольничек не спал – лежал в темноте с открытыми
глазами, свою давнюю обиду лелеял, не мог отца простить; полночи Сокольничек
думал, как обиду забыть, а потом полночи думал, как за обиду отомстить.
Под утро тихонько поднялся Сокольничек, тяжелое копье взял, к Илье Муромцу
подкрался и изо всех сил ударил его копьем в грудь. Да не знал подлый
Сокольничек, что у Ильи Муромца на груди золотой крест семипудовый, крест
богатырский – широкий, украшенный дорогими каменьями. В этот крест и угодило
острие копья – уберег богатыря Господь.
Проснулся Илья Муромец, огляделся... и глазам своим не верит: стоит над ним
Сокольничек в сумерках утра, крепкое копье держит и для нового удара
примеряется. Как вскочил с ложа старый казак, как ударил Сокольничка плечом,
так тот и вылетел из шатра. А Илья Муромец следом идет. Ухватил сына за
длинные кудри, над головой его поднял, потом оземь грохнул. У самого же от
обиды слезы текут.
Не стал Илья подлого убивать. Скрутил его крепкой уздечкой по рукам и ногам,
к коню вороному привязал да сказал этому коню:
– Ты беги, вороной, за Сафат-реку, отвези недостойного к матери, – потом и
сыну сказал: – А ты, Сокольничек, коли захочешь еще раз на Русь прийти, то
иди с поклоном, с покаянием. Если же с мечом обнаженным придешь, не сносить
тебе головы. Это я тебе слово даю – слово богатырское.
Быстро конь вороной домой бежал, давно скучал по родным пастбищам за
Сафат-рекой; бежал, чуткими ноздрями воздух ловил, напоенный духом знакомых
трав. Через реку не переправлялся – одним скоком перескочил, не замочил ног.
К белому шатру прискакал, в камень копытом бьет, ржет радостно.
Услышала Златыгорка коня, узнала, выбежала из шатра и увидела сына своего,
богатыря могучего, по рукам и ногам связанного, сидящего задом-наперед на
коне.
Потемнело у поляницы лицо, ножом булатным рассекла Златыгорка путы:
– Вот, Сокольничек! Не слушал ты меня, не хранил чести богатырской. За то и
опозорен... – роняла Златыгорка слезу. – Если б мне не знать силы твоей, то
не знать бы мне и руки, что тебя одолела. Но я знаю, что сила тебе дана от
рождения великая, и только один человек способен твою силу преломить. Не
буду спрашивать, с кем ты в чистом поле встретился и в какой стороне. Это
мне ведомо... Мне не ведомо за какую подлость Илья Муромец так тебя наказал,
за какое лихое дело опозорил...
Бледен был от обиды и злобы Сокольничек, брови хмурил, зубами скрипел:
– Опозорен я с детства – не в браке рожден. С детства же надо мной
насмехались. Спрашивали: «Где твой отец?» Что я мог ответить? За руку
схватить – руку оторвать; дать щелчка – причинить увечья. Сама помнишь – с
детства жаловались на меня.
Говорила сыну Златыгорка:
– В том, что ты не в браке рожден, менее всего виноват Илья Муромец. Многие
дни и многие ночи звал меня в Киев русский богатырь, звал святое крещение
принять, звал венчаться и в терем свой высокий звал... Многие поляницы
удалые вышли замуж за русских богатырей. И я хотела. Но более того я хотела,
чтоб сын мой на родине вырос, на этих бескрайних просторах, на тихом берегу
Сафат-реки, среди стотысячных табунов коней легконогих, у этих степных
кочевий дымных, у материнского просторного шатра, чтобы знал мой сын тихий
шелест ковыля, чтоб понимал сурчиную песню, чтоб дух кобыльего молока навек
связался в сердце его с именем родины... Еще я хотела, чтоб сын мой
Сокольничек, встретив однажды отца, сам решил, как поступить его матери:
принять ли святое крещение, венчаться ли в Киеве с русским богатырем, идти
ли жить в высокий терем. А ты, Сокольничек, какой ответ дал отцу?..
Не тронули Сокольничка материнские речи, злопамятен был молодой богатырь. И
сказал он Златыгорке, что ответ его был удар копья – в грудь спящему
Муромцу. И искренне сокрушался Сокольничек, что удар был неточен.
Слуху своему Златыгорка поверить не могла, сказала:
– Столь подлое дело не мог мой сын совершить. Родился богатырем он, – не
убийцей, не татем. Кем стал?.. Что матери остается?.. – тут взглянула
Златыгорка Сокольничку в глаза. – Посыпать голову пеплом и ясно сказать: нет
у меня сына...
Словно раскаленным железом ожегся Сокольничек, вскрикнул, переменился в
лице. И вспылил:
– Ах, я тебе не сын?.. Тогда ты мне и не мать!
Он вынул из ножен меч как кладенец и, сомненьями не мучась, мук совести не
зная, ударил Златыгорку в самое сердце; он сердце материнское без жалости
надвое рассек.
Лицо у молодца гневом пылало, дрожали руки от дела студного. Вскочил на коня
вороного, на черного, как дьявол, коня, и поскакал он в чистое поле –
прямиком к заставе русских богатырей. Три ночи скакал и три дня; рычал, как
волк степной, шипел, как змея; ногтями, подобно коршуну, царапал спину
коня... Мечтал Сокольничек о той минуте, когда тем же острым мечом рассечет
он надвое отцовское сердце...
Вот на четвертую ночь увидел Сокольничек заставу впереди. Соскочил с коня, с
обнаженным мечом в шатер ворвался. А перед ним уж Добрыня и Алеша стоят –
вовремя проснулись, услышали бег коня. С Сокольничком мечи скрестили,
зазвенела-заскрежетала сталь, искры засверкали во тьме.
Однако так силен был Сокольничек, так напорист и стремителен, что не могли
его Добрыня и Алеша сдержать, пятились, обо что-то в темноте спотыкались;
кричали и бранились.
Илья Муромец проснулся. Видит: сражение в шатре идет нешуточное; столы и
лавки на стороны летят; видит: отступают русские богатыри.
Вдруг слышит старый казак голос Сокольничка, сына единородного:
– Этот меч Златыгорку в самое сердце поразил. Этот меч поразит и сердце Ильи
Муромца. И это будет мой родителям ответ!..
Достал Илья меч кладенец и сказал тихо:
– Ты на Русь с обнаженным мечом пришел. Не сносить тебе головы.
Он к Сокольничку подошел и из руки его оружие вырвал. За кудри длинные
Сокольничка взял, из шатра на траву его выволок, мечом кладенцом махнул, и
пало у ног его обезглавленное тело молодца, тело сына единственного.
С тех пор на веки вечные в сердце богатыря Муромца поселилась печаль –
великая, неизбывная. И если б не младшие братья его, богатыри святорусские,
если б не их любовь, не их верность, ни за что бы старому казаку,
непобедимому поединщику, с той печалью не совладать.
|