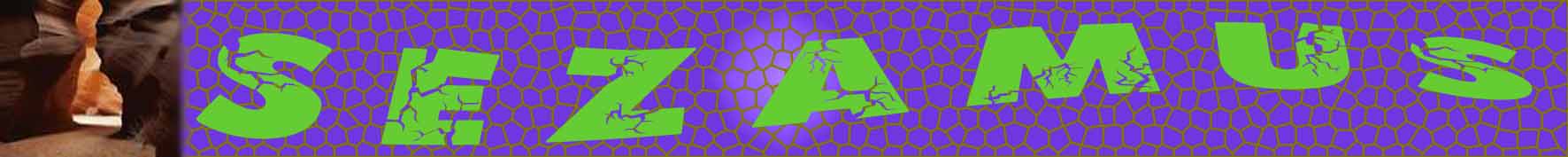|
| |

Мне не придано тут ездить
На святую Русь,
Мне позволено тут ездить
По горам
да по высокиим...
На тых горах высокиих,
На той Святой горы,
Был богатырь чудный,
Что во весь же мир он дивный,
Не ездил он на святую Русь,
Не носила его да мать сыра земля.
.
|
|
|
 |
|
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
КАЛИН-ЦАРЬ |
Много лет служил Илья Муромец, славный богатырь, князю Владимиру. И в
походы ходил – совершал подвиги, и на дальних заставах стоял – грозил
басурманам, коим величие и богатства Киева спокойно спать не давали, и по
синему морю плавал – провожал послов, и в Святую землю, и к монастырям
афонским предпринимал странствия; бывало уму-разуму наставлял неразумных
силачей... А как дела ратного, как поручений важных не было, сиживал с
другими богатырями за широкими столами у щедрого князя.
Премного уважал Владимир Илью Муромца, среди остальных русских богатырей
почитал его за первого, на лучшее же место за столом богатырским и садил, в
первую голову его потчевал, в первую очередь его славил, а в трудные времена
не был глух к его советам. Но бывало по какому-то поводу и обижался на
Муромца киевский князь – известно, у Ильи Муромца нрав был крут, характер
несгибаемый; не мог Илья, подобно боярам, в интригах искушенным, уступить
иль подольститься; если знал, что прав, настаивал на своем, если знал, что
для дела нужно, князю в глаза говорил правду, не юлил.
Однажды сильно пострадал от своего прямодушия; повел речи, князю неприятные,
– князь, правитель опытный, всегда державший свой гнев в руках, на этот раз
не сдержался и в сердцах велел Илью Муромца в подземелье посадить – на целые
три года да на хлеб и воду. На другой же день пожалел Владимир о своем
поспешном решении, но на то оно и веление княжеское: один раз сказано – и
уже закон. С того времени ходили в походы русские богатыри без Ильи Муромца,
и на заставах без Ильи Ивановича стояли, и на пирах без него невеселые
сиживали...
Дни и ночки бежали, а Илья Муромец в темном подземелье этих дней и ночек не
знал – вообще стал забывать славный богатырь, что такое свет дня. На скудных
хлебе и воде слабеть стал, от холодной сырости – болеть. Лежал Муромец в
темнице, про обиду свою думал, про судьбу злосчастную, вздыхал, к приходу
смертушки готовился. Ржавели на могучих плечах стальные доспехи.
Просили киевского князя богатыри, чтоб выпустил из глубокого подземелья Илью
Муромца. Но непреклонен был Владимир. Обиделись на князя богатыри, уехали в
чистое поле.
И бояре просили, говорили, что не справляются без Муромца богатыри, что все
ближе к русским заставам подходит подлый басурманин. Однако разводил руками
князь и говорил, что не в силах отменить собственное слово, как не в силах
остановить солнце, остановить луну, как не в силах перегородить великий
Славутич и не в силах вычерпать синее море.
Знала о ссоре Ильи Муромца с Владимиром и княгиня Апраксия. Совсем юная,
тихая, богобоязненная, покорная воле мужа – ангел кротости... И было у нее
доброе сердце. Это сердце не могло долго терпеть несправедливость. Не
согласная с мужем своим, государем, Апраксия жалела Илью Муромца. Как
представит юная княгиня славного богатыря в темнице лежащим на сырой земле,
в холоде, голодного, так места себе не находит. Не раз вступалась Апраксия,
прелестноликая дева, за Илью Муромца, говорила, что, даже если б не было на
Руси других богатырей, Илья Муромец мог бы один постоять за веру и
отечество, один он мог бы защитить Киев-град, от любого недруга мог бы один
защитить и князя Владимира, и ее саму – Апраксию, – но князь Владимир тихий
голос ее едва ли расслышал.
Тогда пошла добродетельная Апраксия к искусному кузнецу, и тот выковал ей
поддельный ключ для подземелья. Потом нашла княгиня верных людей,
сочувствующих Муромцу, и приказала им втайне идти в темницу и нести
опальному богатырю перины и подушки пуховые, а также одеяла атласные, одежды
новые и шубу теплую; еще велела Апраксия верным людям каждый день носить
Илье Муромцу лучшую еду и лучшее питье – какие только богатырь сам пожелает,
а не пожелает, – так все равно нести.
У Владимира-князя было много верных людей, и среди стражей подземелья много
таких было, однако ни один не донес Владимиру про добродетельный «заговор»
юной княгини – так все сочувствовали Илье Муромцу, так все любили Апраксию.
Однажды про ссору Владимира и лучшего русского богатыря прослышал
басурманский царь Калин, поработитель многих земель. В то время стародавнее
было у него большое и сильное басурманское царство, но стало бы оно вдвойне
сильнее – первым царством в свете стало бы, – если б удалось Калину
захватить Русь и сровнять с землей Киев. Править всем миром по-своему,
по-басурмански, со всего мира богатства стяжать и над всем миром своих слуг
господами садить – вот была главная мечта подлого царя.
Порадовало Калина известие о том, что Илья Муромец, гроза всех басурман,
ныне в подземелье томится – в холоде и сырости за тяжелыми железными
дверьми. И решил Калин, что пришло его время, что пора силы басурманские
поднимать и огнем и мечом крепить басурманское величие, огнем и мечом
крепить казну, решил собака Калин, что пришло время раздвигать границы
Басурмании.
Позвал Калин-царь к себе в шелковый шатер посланника и говорит:
– Поедешь, посланник, в стольный Киев-град. Не просителем, не дарителем –
поедешь господином. И всем киевлянам, а особо князю Владимиру и боярам его,
будешь выказывать свое господское небрежение: как приедешь на княжеский
двор, как с коня сойдешь, не жди приглашения, сам иди на крыльцо, поднимайся
в палаты белокаменные. Шапки не снимай, в двери не стучи, на слова о добром
здравии не отвечай...
– Понял, господин, – кланялся посланник, бритую голову от пола не поднимал.
Калин-царь поставил ногу ему на спину, давил меж лопаток острым каблучком:
– Как в палаты княжеские войдешь, на образа в углу взгляни презрительно, на
людей, что при князе будут, вообще не смотри – для тебя, господина, нет их;
они – пыль на твоих пятках. Сразу к князю иди, подходи к его дубовому
столику и, не поклонившись, не пожелав ни здравия, ни долгих лет жизни, ни
благополучия, вот что скажи... – здесь задумался Калин-царь, реденькую
бородку затеребил. – Слово в слово скажи... А чтобы не забыть, на рукавах на
шелковых себе запиши... И вот что передай: «Ты, Владимир стольно-киевский,
повелитель маленький, готовься к приезду большого повелителя, истинного
владыки земного, подобного владыке небесному: все улочки стрелецкие, все
княжеские дворы чисто подмети, а затем красиво камнем вымости; по всем
широким улицам и узким переулкам поставь хмельной напиток сладкий – чтоб от
бочки до бочки было рукой подать, чтоб от бочки до бочки могла идти по рукам
чарочка, чтоб великому Калину-царю было где со своим непобедимым воинством
разгуляться»... Записал?
– Записал, господин.
– И еще ты ему, посланник, скажи, чтоб из казны своей злато-серебро
доставал; скажи, чтобы с куполов снимал сусальное золото, ибо мне, великому
царю басурманскому, больно на их сияющие купола смотреть... А если не
выполнит все, как велено, киевский князь, и не встретит гостей с почетом,
скажи – скор Калин-царь на расправу, скажи – головы Владимиру не сносить, и
не сносить головы любимой супруге его несравненной Апраксии, Киеву –
разрушенному быть, а Руси – разоренной...
Как толкнул Калин-царь посланника ногой, так тот из шатра и выкатился.
Собакой выкатился, но горделивым львом поднялся; на стражников у входа в
шатер посмотрел надменно.
Скоро приехал в Киев посланник царя Калина. В палаты белокаменные
вломился невежа невежей. Сапог у порога не вытер, грязи степной нанес; на
образа в углу взглянул презрительно, на княжеских домочадцев, на думных бояр
вообще не глядел – пыль она всюду пыль. В горницу князя вошел без
приглашения – дверь ногой толкнул. Шапки с башки бритой не снимал. Перед
Владимиром у дубового столика резного остановился, распустил шелковые рукава
и прочитал послание грозного царя Калина слово в слово.
Потемнело лицо у князя Владимира. Оттого потемнело, что приходилось
Владимиру этого басурманского невежу терпеть, и оттого, что не видел князь
из тяжелого положения выхода: после ссоры с Ильей Муромцем много времени
прошло – от холода и голода, должно быть, умер уже богатырь, и остались от
славного воителя только косточки в темнице сырой; и с другими богатырями
князь рассорился – обиделись на князя богатыри, все до единого уехали в
чистое поле лучшие лучники и копейщики, тяжелой палицы мастера; без брони их
беззащитен стал стольный Киев-град, и враги о том явно прознали... И
посланник их кичливый вот стоит, ковыряет в зубах, под ноги поплевывает,
презрительно усмехается... Враг и ближний, и дальний русской междоусобице
рад; а когда брат идет на брата, всегда находится подлый, спешащий на их
вражде погреть руки...
Но Владимир был опытный князь и не спешил отчаиваться. Решил выгадать время,
силы собрать. На ужимки посланника будто внимания не обратил Владимир;
послание Калина выслушал с учтивостью. Потом сказал:
– Дорогого гостя, царя Калина, и великое воинство его, конечно, примем со
всеми почестями. Но нужно время, чтоб Киеву подготовиться к торжествам –
чтоб вымостить улицы и дворы, чтоб бочки с питьем расставить, чтоб сокровища
на площади свести и сорвать с куполов сусальное золото... Попрошу я у Калина
три года сроку и о том ему грамотку напишу, а ты передашь, посланник.
Но Калин-царь не дал три года сроку, а дал всего три месяца. Хитер был,
собака, знал, что за три месяца киевскому князю сил не собрать.
Три раза князь Владимир посылал слуг в чистое поле к русским богатырям; три
раза возвращались слуги ни с чем, разводили руками. Отказывались выручать
князя богатыри, отказывались Киев защитить. Глубокую обиду держали на
Владимира, не могли простить Владимира за несправедливый и скорый суд над
старшим братом своим Ильей Муромцем.
Время шло, а стольный Киев был по-прежнему беззащитен. Доносили слуги, что
все ближе подходит несметное воинство Калина-царя; подходят саранчи полчища,
затмевающие свет. Призадумался-пригорюнился Владимир-князь; места себе не
находил, вздыхал, тайком утирал слезы; с тоской смотрел на свой красивый
город, коему недолго оставалось стоять, с щемящим сердцем глядел на золотые
купола храмов. С любимой женой Апраксией мысленно прощался. Клял себя, свой
несдержанный нрав, и неправедный гнев, и поспешный суд, недостойный мудрого
правителя. Перед образами денно и нощно молился, милосердному Господу
каялся... Но прошли отведенные басурманским царем три месяца, вострубили под
стенами Киева вражьи трубы – возвестили о подходе Калина-царя и его
непобедимого воинства. В княжеских палатах тихонько стены дрожали – то
выходили из-за дальних холмов басурманские конницы; на пиршественных столах
сама собой позвякивала посуда – то по всем дорогам и тропкам стекались к
Киеву пешие басурманские полки; гром громыхал все громче – катилась с
востока большая Калинова арба...
Однажды услышала юная Апраксия, что супруг ее Илью Муромца с горечью
поминает; поняла, что раскаялся Владимир, что жалеет о содеянном, и решила,
что пришло время собирать разбросанные камни. И сказала Апраксия,
прелестноликая жена, любимому мужу:
– Все бы беды нам были не беды, кабы встал на защиту Киева Илья Иванович,
несокрушимый богатырь. Силушка у него, говорили, Святогорова...
Тяжело вздохнул князь:
– От Ильи Ивановича, считай, только косточки остались в киевской темнице –
на хлебе-то и воде, в сырости-то и холоде... А сила Святогорова капля за
каплей в землю ушла. Некому стоять за веру и отечество, некому за храмы
Божьи стоять, некому беречь князя Владимира и юную Апраксию-княгиню. Увы,
мое неразумие тому виной, и ничего уж изменить нельзя...
Засмеялась юная Апраксия:
– Отчего ж изменить нельзя? Нужно только пойти к Илье Муромцу и позвать его.
Но сначала не забыть перед ним повиниться... Жив славный русский богатырь и,
как прежде, силен.
Просветлело тут лицо киевского князя, супругу любимую Владимир обнял, из
ларца ключи золотые достал и поспешил в подземелье – по высоким каменным
ступеням чуть не бегом бежал.
А в подземелье смотрит князь – ключи ему не нужны, дверь темницы нараспашку;
сидит Илья Муромец на теплой перине, шубой собольей укрыт, перед ним стол
широкий, уставленный яствами и питьем, кубки серебряные, блюда золотые. В
полном здравии богатырь. Плечи у него – косая сажень, ручищи – что у кузнеца
молоты, борода – до пояса. Чинно кушает богатырь, питьем медвяным запивает и
на князя не глядит.
Поклонился ему в пояс Владимир-князь:
– Ты прости меня, Илья Иванович, за неправедный гнев, за несправедливый суд,
прости за слова неуважительные. Выходи из темницы да на защиту Киева стань,
на защиту храмов златоглавых, на защиту народа православного, на защиту
меня, несправедливого, на защиту прекрасной Апраксии.
Когда Илья Муромец заговорил, затрепетало пламя свечи:
– Что ж, будь по-твоему, киевский князь. Поднимусь я на защиту стольного
Киева, лучшего из городов, поднимусь на защиту храмов и народа
православного; а особо постараюсь защитить добродетельную Апраксию... Для
тебя, Владимир-князь, не старался бы...
С этими словами встал богатырь – сводов темницы челом коснулся. А уж князь
на радостях его за плечи обнимать да в уста целовать. Повел Илью Муромца в
свои роскошные покои, солнцем залитые, посадил за хлебосольный стол, лучшими
боярами, мудрейшими старцами окружил, вкуснейшими блюдами потчевал, высокими
беседами, певцами и скоморохами развлекал, сам же все на окна оглядывался –
близко уж была тяжеловесная Калинова арба.
Не долго пировал богатырь, тоже на окошко оглянулся:
– Что это там будто туча идет? Что это будто гром гремит?
Князь в волнении пошел от окна к окну:
– Это войско басурманское со всех сторон Киев обложило. Это подъехала к
Золотым Воротам Калинова арба.
Княжеские палаты высоко на горке стояли; и из них видно было далеко.
Пробовал сосчитать Илья Муромец басурманские конницы и полки – где там!..
Помрачнел богатырь.
И сказал князю:
– Одному мне никак не справиться с этим войском. Нужно богатырей звать.
Поеду я за ними, государь, в чистое поле, подниму на защиту русской земли. А
ты, Владимир, постарайся три дня город удержать...
На этом и расстались.
Илья Муромец пошел к себе на подворье; насилу ворота открыл – заросли они
бурьяном. Слуг на подворье никого не осталось – все давно себе новых хозяев
нашли. Один только мальчишка при конюшне жил – и все это время Сивку-Бурку
кормил, не дал пропасть с голоду богатырскому коню. Этому мальчишке Илья
Муромец со всей щедростью заплатил, в лучшие одежды нарядил и сделал своим
ключником.
Крепкие доспехи надел богатырь, взял из оружейной палицу свинцовую, копье
ясеневое, славный меч кладенец, взял лук разрывчатый со стрелами калеными,
коня любимого оседлал и поехал со двора – направил Бурку к Золотым Воротам.
Выехал из города Илья, а под городом сил басурманских – тьма тьмущая.
Шелковые шатры стоят, повсюду костры горят, на злых жеребцах чужие витязи
гарцуют. Тут и там телеги колесами скрипят, воины лошадей понукают. Топоры и
молотки стучат – строят Калиновы мастера осадные машины... От криков тысяч и
тысяч воинов, от ржанья множества коней уныние охватило сердце киевского
богатыря – как умело воспользовался враг раздором в русском стане; как он
быстро русскую ссору себе на пользу, на прибыль повернул.
Едва увидели басурмане Илью Муромца в воротах, подняли крик. Но не успели с
места двинуться, не успели из ножен вытащить сабли, а уж Илья Муромец
промчался через вражеские ряды на лихом коне. Переполоху наделал, многих
зашиб; сам невредим остался и был далеко. Гнал коня в чистое поле.
Целый день ехал Муромец по степи. Первую горку проехал, вторую... К вечеру
за третьей горкой увидел белые шатры. А у шатров, увидел, стоят богатырские
кони – двенадцать красивых коней.
Подъехал Илья к шатрам, пустил своего Бурку к другим коням богатырским, а
сам вошел в самый большой шатер. Там увидел: сидят у котла двенадцать самых
могучих русских богатырей, среди них Самсон Самойлович – старший.
Сказал им Илья Муромец:
– Снова видеть вас, святорусские богатыри, для меня счастье великое. И было
б сердце мое преисполнено радости, кабы не поселилось в нем уныние.
Самсон Самойлович, старый богатырь, поднялся навстречу гостю, обнял его,
пригласил к единому столу:
– От любого уныния, говорят, хорошо помогают сытная трапеза и доброе
питье...
Покачал головой Илья Муромец:
– Пожелал бы вам хлеб да соль, кабы было время богатырям ужинать... Но кусок
хлеба в горло не полезет, когда под славным стольным Киевом стоит собака
Калин-царь – стоит с войсками несметными, хочет город разорить, чернь
мужиков повырубить, Божьи церкви на дым пустить, князю Владимиру с Апраксией
княгиней срубить головы... – и просил Илья: – Оставляйте, братья, сытную
трапезу и медвяное питье, седлайте своих быстрых коней и поедемте врагу
отпор давать – не то одному мне не справиться.
Вздохнули богатыри, меж собой переглянулись и такой давали ответ:
– В обиде мы, Илья Иванович, на киевского князя. Он нашу просьбу не уважил,
а мы его просьбу уважить не хотим. Не станем помогать Владимиру.
Еще пуще уговаривал богатырей Илья Муромец:
– Пускай вы не хотите просьбу князя уважить, пускай не хотите Владимиру
помогать. Вы помогите мне, вашему старшему брату, святорусские богатыри, вы
мою просьбу уважьте...
Но стояли на своем двенадцать богатырей:
– Не будем Владимиру помогать. Есть у него много князей-бояр; он их что ни
день потчует, он их в шелка одевает, он к советам их прислушивается. Вот
пусть в трудный час князья и бояре и становятся грудью за своего радетеля...
Не унимался Илья Муромец:
– За мужиков, за жен и деток их, за веру православную, отданную на
поругание, постоим, святорусские богатыри. Вас двенадцать, а я буду
тринадцатый... Калина-царя вместе с воинством его, как капусту, порубим...
Более не отвечали святорусские богатыри, из-за стола не поднимались, из
шатра не выходили.
Делать нечего – поклонился богатырям Илья Муромец:
– Как не справлюсь, я вам весточку пришлю.
– Ты прости нас, старший брат!.. – сказал за всех Самсон Самойлович.
Это вовсе не сказка, это верная быль... Не ясный сокол летел в небесах на
стаю гусей-лебедей, а святорусский богатырь Илья Муромец гнал коня по
раздольному чистому полю; не ясный сокол падал из-под облак на куропаток
перепуганных, а лихой казак Илья Иванович на басурманские орды налетал. Он
конем топтал полки пешие; у Сивки-Бурки копыта – были страшные молоты;
закусил удила, носился по полю конь богатырский; Илья копьем разил полки
конные – трещало, едва не ломалось крепкое ясеневое древко; тяжелой палицей
свинцовой Илья Муромец вышибал из седел басурманских витязей; вихрем
налетал, крушил башни осадные, переворачивал обозные телеги, рвал шатры,
бунчуки по бескрайнему полю разметывал, груды тел басурманских позади себя
оставлял; дикий ужас на пришлое воинство наводил Илья, лихой казак. Он был –
ветер, клонящий к земле ковыль, он был – дождь, пыль к земле прибивающий, он
был – гром, потрясающий сердца слабых... Много в тот день подвигов совершил
Илья, в стане врага стяжал себе великую славу, но, Боже, Боже, сколько же
воинства было у собаки Калина-царя, что даже у Ильи Муромца устала разить
рука и с каждым разом было все труднее поднять палицу, и все сложнее было от
ответного удара увернуться...
И взмолился Сивка-Бурка, заговорил человеческим голосом:
– Пожалей меня, своего друга верного, святорусский богатырь, – дай отдыха.
Поутру бежал твой Бурка через басурманский строй – как через заросль
камышовую, а вечор пробивается – что через дубовый лес.
Тогда Илья Муромец оставил побоище, вывел коня за первую горку. А тут и
солнышко село, упала на землю роса.
Искупался в росе Сивка-Бурка, пшеницы белояровой, насыпанной щедро, поел,
сил набрался и говорит опять богатырю:
– Перед тобой, Илья, никто не устоит, ибо сокрыта в тебе сила Святогорова.
Но постарается собака Калин-царь взять тебя хитростью. Этой ночью не спят
басурмане; слышу я – они подкопы роют, да не под стены городские подкопы, а
под тебя – богатыря непобедимого. Три подкопа роют – один другого глубже.
Первый подкоп, знай, Илья, нам не страшен; поднатужусь я и из подкопа
выскочу. Второй подкоп поглубже будет, но и он нам не беда, поднатужусь я, и
из него выскочу, вынесу могучего седока. А вот третий подкоп – очень
глубокая ямина; боюсь, не хватит у меня силы вынести из той ямы тяжелого
седока; даже одному мне будет трудно выскочить...
Осерчал Илья Муромец на коня, схватился за шелковую плеть:
– Ты не конь богатырский, а собачище изменное!.. Я тебя кормлю, я тебя пою,
из гривы твоей, из хвоста твоего репьи вычесываю, на подковы тебе не жалею
серебра, а ты хочешь оставить меня в чистом поле, в глубоком подкопе
басурманском? На кого мне еще в этой битве положиться, если не на тебя,
косматого?
Понимал Сивка-Бурка свою вину, но также понимал он и то, что и у самого
лучшего богатырского коня силушка – не безграничная...
Еще солнце не встало, еще даже не развиднелось поутру, а уж в стане
Калина-царя тревожно пели трубы – это дозорные поднимали рать; услышали
басурмане проклятые поступь богатырского коня. И продолжилась битва.
Для многих непрошеных гостей этот день стал последним днем жизни. С новой
силой сражался с басурманами Илья Муромец – и конем топтал, и копьем
неустанно разил, и ударял палицей; сокрушал ряды врагов – словно камешки
разбрасывал, сыпались по полю воины Калина-царя – будто горох по полу... Но
вдруг провалился Сивка-Бурка в подкоп вместе с седоком. Закричали радостно
басурмане, удалась их хитрость. Рано радовались... Конь богатырский
поднатужился и выскочил из подкопа. И сверкнуло страшное копье, и
громоподобно застучала палица, раскалывая, словно ореховую скорлупу,
вражеские щиты и стальные панцири. Побежали басурмане в разные стороны; в
панике друг на друга наступали, друг другу на голову лезли. И все они были с
этого дня – прах, не более... Однако в другой подкоп, что поглубже,
провалился богатырский конь. Насилу из подкопа выбрался – очень хорошо
поднатужиться пришлось; вынес из ямины грозного седока. Ах, опять посыпалась
на землю расколотая «скорлупа»!.. Кричали от ужаса басурмане – не могли
спасения найти от лихого казака. Напрасно призывали их на бой трубы,
напрасно гудели языческие бубны, их ненависть подогревая.
Когда уж победа, казалось Илье Муромцу, была близка, обрушилась под
Сивкой-Буркой земля, и провалились конь со всадником в глубокую черную яму.
Тут вспомнил богатырский конь все доброе, что делал для него Илья Муромец,
очень постарался, поднатужился, изо всех сил скакнул... и выскочил из
глубокой ямины. Да выскочил он один – остался в той проклятой яме, как
медведь в ловушке, самый сильный русский богатырь.
Возликовали над ямой басурмане, дикие пляски на краю ямы устроили. Хотели
поймать богатырского коня, но не поймали – убежал конь. Бросали басурмане
камни в Илью Муромца, насмехались, давали ему презрительные прозвища. Однако
не знали, как богатыря из ямы взять. Потом придумали: набросили на Илью
Муромца крепкую сеть, а когда запутался в сети Илья, подняли его наверх, и
руки-ноги заковали в железо. Одни басурмане такие злые были, что хотели тут
же голову богатырю отрубить; но другие желали выслужиться перед
Калином-царем – Илью Муромца к нему свести; а как таких было больше, так и
повели лихого казака к царскому шатру.
Вот вострубили трубы, вышел из шатра Калин-царь; кругом него воины
басурманские толпой стоят, а перед ним – опутанный цепями святорусский
богатырь; под тяжестью железа опущены плечи, от кручины-кручинушки склонена
голова; так тяжел могучий русский богатырь, что в землю ушел по щиколотку.
Засмеялся Калин-царь, затопал от радости ногами, руку об руку потер:
– Вот стоишь ты передо мной, прославленный богатырь Илья Муромец, – пальцем
без спросу не шевельнешь, защитник земли русской... Ты дерзнул, молодой
щенок, напускаться на силу мою великую, басурманскую... Ты неужто хотел один
все мое воинство побить?.. Неужто так высоко о себе думал?
Ничего не ответил на эти слова Илья Иванович, не его был час красивые речи
говорить. Стоял связанный, изнуренный битвой богатырь.
Перед ним по ковру, брошенному на землю, прохаживался Калин-царь,
торжествовал:
– Сейчас велю тебе голову отсечь... Да и отсек бы, но ты, говорят, смерти не
боишься; говорят, будто напророчили тебе старики-провидцы, что не в бою, не
от клинка булатного ты смерть примешь, – задумался басурманский царь, чесал
бритое темечко. – А вот как прикажу запрячь тебя, Илья Муромец, в мою
большую арбу! Пусть покатает меня по улочкам Киева сила Святогорова...
Молчишь? Неужто унижения не боишься?.. Нет, я иначе поступлю: я сколочу
помост широкий у тебя на груди, Илья, и со всем воинством на том помосте
буду сидеть, пировать буду целых три дня, – пока, как собака, не сдохнешь
ты, пока не начнет точить твое тело червь.
Стоял недвижен богатырь, молчал – будто и не слышал, будто и не о нем
говорилось.
Тогда заговорил Калин-царь с уважением:
– Ты себя достойно ведешь, богатырь. Я и сам воин, и знаю цену мужеству. Не
буду тебе голову рубить, не буду унижать твоей чести, ибо понимаю – унижая
твою честь, только свою честь и уроню... А лучше садись-ка ты со мной, Илья
Муромец, за изобильный стол, поешь наших лучших блюд басурманских из
бездонных медных котлов, выпей нашего ароматного басурманского вина из
кувшинов серебряных чеканных; а еще надень одежду драгоценную из моих
сундуков, из лучшей овечьей шерсти надень – белую-белую, сотканную руками
наших басурманских красавиц, или шелковую выбери, надень – нежную и легкую,
как ресницы ребенка; если хочешь – из моей казны возьми, сколько нужно,
золота, наполни переметные сумы... И лучшие витязи мои пусть посмотрят на
тебя – каким следует воину быть – красивым и непобедимым...
С этими словами велел Калин расковать Илью Муромца, лихого казака.
Ответил Калину Илья:
– Я не сяду с тобой, собака Калин, за изобильный стол, не стану есть твою
еду, не стану пить твое питье; не нужно мне ни одежды драгоценной, ни
бессчетной золотой казны. Не обманывайся, не буду служить тебе, Калин-царь,
а буду, как прежде, служить своей вере, своему отечеству, буду стоять за
стольный Киев-град, за князя Владимира и добродетельную княгиню Апраксию.
Развернулся Илья Муромец и пошел в чистое поле – прямиком через воинство
басурманское пошел; кого-то ненароком и зашиб плечом насмерть.
Ох, и разгневался тут Калин-царь, затопал ногами от злобы:
– Схватить Илью Муромца! В железо заковать!..
Бросились лучшие витязи за Ильей Муромцем вслед, выхватили сабли, размотали
арканы, окружили русского богатыря. А у Ильи – ни шлема, ни доспехов, ни
копья, ни палицы, ни меча кладенца... только руки могучие да отважное сердце
да Господь Вседержитель в Небесах... Как схватил Илья Муромец одного
басурманина за ноги, так и стал этим басурманином помахивать: то влево
махнет – сотню врагов повалит, то вправо махнет – положит сотню врагов;
благо – крепкая была у басурманина, будто палица, башка. Разбежались
басурмане в разные стороны, ибо поняли, что никак не взять им вновь русского
богатыря.
Так и ушел Илья Муромец в чистое поле.
Засвистел в степи молодецки. На этот свист Сивка-Бурка прибежал. И копье при
нем, и палица, и меч кладенец, и лук со стрелами. Ехал по чистому полю
богатырь, думу горькую думал: не одолеть ему одному несметную силу
басурманскую – целую жизнь можно биться, и конца той битве не увидеть.
Поглядел он в ту сторону, где за дальними холмами пировали у котла
двенадцать лучших святорусских богатырей, и решил подать братьям весточку.
Взял Илья свой лук разрывчатый, натянул шелковую тетиву, а на тетиву наложил
стрелу каленую и пустил ее в высокое небо.
Стреле вдогонку сказал:
– Лети-ка ты, каленая стрела, в тот большой белый шатер, в коем русские
богатыри прохлаждаются, в коем обиды на князя лелеют, да оцарапай могучее
плечо брату моему Самсону Самойловичу...
Долго летела каленая стрела и была, меткая, послушна воле искушенного
стрелка. В это время спали двенадцать святорусских богатырей. Стрела уже на
излете была, пробила шелковый полог шатра, внутрь влетела, по груди Самсона
Самойловича скользнула и оцарапала ему могучее плечо.
Пробудился Самсон от крепкого сна, огляделся; увидел отверстие в пологе,
увидел стрелу и кровь у себя на плече и понял, что стрела – и есть весточка
от старшего брата, от Ильи Муромца. Догадался Самсон, что не справляется с
вражьей силой, гибнет русский богатырь. Разбудил Самсон младших братьев,
русских воителей славных и сказал, что получил он недобрую весть – будто
тяжко приходится Илье Муромцу, будто даже с силой Святогоровой не может он
Калина-царя одолеть.
Совестно стало русским богатырям, что брат их старший в одиночку бьется с
врагом, а они тут вдали от ратных дел прохлаждаются, сытно кушают, сладко
пьют. Вскочили они на своих коней и поскакали раздольным чистым полем к
стольному Киеву...
Илья Муромец увидел братьев своих с высокой горы – увидел пыль по степи
столбом. А еще раньше он их услышал – услышал песню молодецкую, да перестук
копыт, да грозное бряцанье оружия. Быстрее птицы летели по степи русские
богатыри. Серебром доспехи их сверкали, и вился над головой у них шитый
золотом шелковый стяг.
Далеко по округе гром разнесся – это ударили по басурманам русские богатыри.
Илья Муромец с Полуночи ударил, а младшие братья его – с Полудня. Опрокинули
Калиновы полчища и месили их, как месит глину гончар, и косили их, как косит
травы косарь, и рубили, как дровосек деревья рубит. Стон и крик стояли над
басурманским войском, кровь поганая ручьями текла, косточками погаными
чистое поле на сто верст было усеяно; теряли оружие непрошеные гости, бежали
в панике, бросали награбленное, молили о пощаде – но всюду настигал их
беспощадный меч.
Окружили шатер Калина-царя русские богатыри и велели:
– Выходи, собака Калин-царь.
Выполз перепуганный Калин из шатра – бледен, как смерть, руки-ноги трясутся.
Куда подевался суровый взгляд? И надменных речей не слышно... Ползает у ног
богатырских коней, копыта тяжелые лобызает. Еще вчера себя под небесами
мнил, свое имя в ряду лучших воителей ставил.
Сказал Самсон Самойлович:
– А срубим-ка мы ему буйную головушку, братья!..
Взвизгнул от страха Калин-царь.
Илья Муромец иное предложил:
– Лучше мы его в стольный Киев доставим – перед ясные очи князя Владимира.
Очень Калин-царь к Владимиру хотел...
Запрягли Калина-царя в его же большую арбу, полную золотой казны, и погнали
в Киев – бичом над головой щелкали, острыми пиками спину кололи. Быстро
Калин-царь до княжьего двора добежал, едва поспевали за ним богатырские
кони.
Князь Владимир не помнил зла, не стал рубить голову Калину-царю. Встретил
Калина-царя как гостя киевский князь.
Спросил ласково:
– Хороши ли, красивы ли киевские улицы, мощеные камнем?
– Хороши киевские улицы, – кланялся Калин. – Легко катилась по ним моя арба.
– А питье медвяное вкусно? Бочки на каждом углу стоят, тебя, Калин, и твоего
воинства дожидаются...
Тут заплакал Калин-царь:
– Прости меня, добрый киевский князь. Не руби мне буйной головы. Отпусти на
четыре стороны. Оставлю тебе большую арбу с казною и из века в век буду дани
платить – о том мы с тобой напишем великие записи и печатями их скрепим.
На том и порешили князь Владимир и Калин-царь. А тем старинным деяниям в
народе до сих пор славу поют...
|