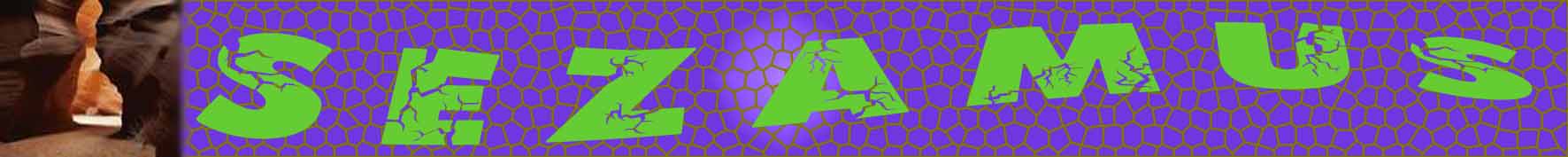|
|
 |
В славном царстве Алыберском жил могущественный царь по имени Саул
Леванидович. И была у него жена, царица Азвяковна, молодая Елена
Александровна. Жили они в любви и согласии, были счастливы, и народ их
счастлив был. Мудр был царь Саул Леванидович, знал, что народу его нужно, –
всего лишь мир и покой, а остальное народ сам добудет усердным трудом,
умением. Потому дома государь не сидел, рубежи своего царства крепил, мир
обеспечивал. Спесивых соседей, на царство его с жадностью поглядывающих,
бывало кланяться заставлял, ходил на них походами, данями облагал; угнетал
их немного, чтоб не очень-то расправляли плечи, чтоб на царство его не
зарились.
Труднее всего было царю Саулу совладать с половцами. Сильный это был народ:
многочисленный, воинственный, гордый. И красивый был народ. Тюрки. Себя
половцы команами звали, а страну свою Куманией. Были команы кочевниками,
пастухами. В степях пасли табуны коней, возле рек аилы ставили; на
прибрежных травах сочных множились отары овец.
Что ни год подходили орды половецкие к Алыберскому царству. Хотели рубежи
перейти. Но не пускал их, отгонял царь Саул Леванидович.
Половецкие ханы собирали под знамена молодых воинов, молились своим каменным
богам; хотели напасть на богатое царство Алыберское. Прознал о том Саул
Леванидович и не стал ждать набега половецкого, сам в поход собрался –
заставить опустить голову тех, кто слишком высоко ее поднял. Хотел потеснить
половецких ханов, хотел данями их обложить. Руку, поднявшую меч, решил
ухватить за запястье.
Дружину свою храбрую подняв, поехал царь Саул из стольного града. С ним
царица выехала из дворца – проводить хотела до первого стана. Но не смогла
проститься на первом стане, поехала и до второго. Так любила царя, слезы
глаза застилали! От второго стана поехала и до третьего. Если б царь не
настоял, так, может, и в Куманию с ним бы отправилась.
На высокой горе расставались, а под горой ожидала дружина – тысяча витязей
прекрасных, воинов храбрости беззаветной, славных богатырей.
Кланялась царю царица Елена, слезы утирала, спрашивала, надолго ли он
оставляет ее пуховое ложе:
– Царь мой, муж мой! Одна остается государыня. Некому мне будет на плечо
голову преклонить, некому излить душу, не с кем посоветоваться. Не наступили
ли для меня многотрудные времена?..
За шею царя обнимала, такие говорила слова:
– Ты не знаешь еще, государь, уезжаешь. Не хотела я до времени говорить. А
теперь скажу! Может, знание это согреет тебя в пути, может, укрепит в
битве... Я ребеночка под сердцем ношу! Вряд ли царевну, скорее – царевича.
Очень уж хочется мне вина! А такое, говорят, – к мальчику...
Сетовала на судьбу красавица-царица, на прощание целовала государя:
– Ах, не вовремя оставляешь ты меня, Саул Леванидович! Кабы не вышло беды!..
Бог с ними, с половцами! Не пусти их, царь, в долины наши; не ходи в долины
ихние. Не оставляй меня, государь!
Успокаивал Саул царицу Азвяковну, молодую Елену Александровну:
– Не тревожься, жена! Верных слуг оставляю тебе полон дворец. И служанок
дворец полон же! Матушке своей на плечо голову преклони, подруге верной, от
тебя не зависимой, излей душу, а с советником старым посоветуйся. Мне
ребеночка роди. Будет кому за ним ухаживать. Если сына даст Господь, вскорми
его, выходи, воином воспитай. И за мной пошли в степь половецкую!.. А если
дочкой Бог пожалует, вскорми ее, выходи, рукодельной воспитай, за королевича
могучего замуж отдай. И любимого зятя в степь половецкую за мной пошли!..
Уезжаю я на двенадцать лет. Если раньше управлюсь – раньше буду; если
вовремя не управлюсь, не знаю, когда буду. Жди, жена, не печалься; на судьбу
не сетуй. Не так уж и трудна у царицы судьба.
С этими словами спускался с горы Саул Леванидович к своему храброму
воинству. И садился на коня, нетерпеливо копытом бьющего, и уезжал в
выжженную солнцем степь половецкую, быть может, на двенадцать лет.
Прошло немного времени и родила царица сына в срок; не ошиблась государыня,
не случайно хотелось ей вина. Приходил во дворец старый поп с молитвою, в
лохани серебряной он ребеночка купал, на грудь ему крестик вешал, имя
царское давал – назвал Константином.
Неделю царица от радости плакала, на сына в рубашечках любовалась. Неделю
грустила – жалела, что мужу никак сообщить не может о радости своей. Не
знала, куда гонца послать, ибо бесконечна была желтая степь половецкая.
А дите царское, Константин Саулович, крепеньким родился. Первый был из
младенцев и красавчик. Рос царевич не по годам, а и не по месяцам. Рос по
дням, по часам. А как исполнилось Константинушке семь годков, выглядел он на
все двадцать. Такой вот юноша был, царское семя.
Усадила его матушка учиться грамоте. Без особого труда обучился царевич
чтению, письму и счету, ибо премного сметлив был. Тогда за науки его
посадили. Но науки не пошли, ибо родился царевич воином, удался в отца.
Силушку почувствовал Константин Саулович, стал по улицам похаживать, да не
со сверстниками шуточки шутить, а с усатыми, бородатыми молодцами. Было уж
тем молодцам кому по двадцати годков, а кому и по двадцати пяти. Однако
царевича семилетнего побаивались, поскольку шуточки его иной раз
оборачивались им увечьями. А были то все дети не мужицкие: то холеные
княжеские, то лощеные боярские, то балованные дворянские иль откормленные
бычки купеческие. Делал вид, что снисходил до них юный Константин Саулович,
будто дружбу водил, а сам их недолюбливал: грубые шуточки шутил. Кого за
руку возьмет – вывихнет руку; кого за ногу заденет – больно ушибет; кого
ласково по спине погладит, тот на четвереньках домой ползет; а кому,
забавляясь, щелчок даст, тот едва не без головы от него убегает. Силе
богатырской меры не знал царевич Константин, порой не совладал с нею.
Просилась наружу сила, не давала царевичу покоя. То ни с того, ни с сего
Константин арбу с дынями на рынке перевернет, то камень великий из земли
выворотит, ногтем подцепит; бывало ладью купеческую ручищей раскачает и
возле берега потопит. На гуляньях быка кулаком оглушал. Как приложится, меж
рогами даст, так и валится бык кверху копытами и ногами потешно сучит;
полежит полдня животина, потом поднимется и идет, шатается, в дома и заборы
носом тыкается.
Удивлялся народ силе царевича. А князья-бояре да дворяне и купцы обижались
на Константина, деток своих усатых, бородатых – ушибленных – жалели.
Меж собой злословили знатные мужи:
– Что это за урод у нас но дворце растет? Разве нормально это, что в семь
лет ребенок арбы переворачивает и забивает быков?
Злобно щурили глаза:
– Шуточки у него дурацкие. Нет бы науками заниматься!.. Увы, будто выродок
мужицкий, все на улицу глядит, добрых людей за рукава дергает да щелчки
дает!..
Гаденько усмехались:
– Да и царский ли он сын? Может, и правда, мужик какой темный в покои к
царице завернул? Ведь царя-то, Саула Леванидовича справедливого, уж не было
во дворце... Не нагуляла ли Константинушку наша царица?
Так они меж собой говорили, пугливо оглядывались, а потом во дворец шли, в
ножки падали царице Азвяковне, молодой Елене Александровне.
И говорили совсем другие слова:
– Славный царевич растет у тебя, государыня! Истинный будет воин! Весь в
отца, Саула Леванидовича! И ростом бог не обидел, и силушкой оделил. Но мал
еще летами Константинушко, ребенок он еще. Шаловлив! Шутки они, конечно, и
есть шутки! Какой за них спрос?.. Да только ходят наши детушки все ушиблены,
поцарапаны!.. Не подумай чего такого, царица! Мы всем довольны! И наши
детушки тоже... Синяками, ссадинами, от царевича полученными, гордятся –
всем их показывают, хвалятся. А и как не хвалиться? Царевич ведь августейшую
ручку приложил! Спасибо ему от нас передай, и не ругай его, царица...
Однако государыня все правильно понимала. Царедворцев опытных настроения
угадывала. Сына-богатыря в терема свои зазывала, строгим голосом ему
выговаривала:
– Не ходи, Константинушка, по улицам да по рынкам. Арбы торговцам не
переворачивай, дынь не дави, не вытаскивай из земли камни! Мальчик мой, не
бей кулаком быков этих, не потешай народ! Ведь не скоморох ты, а царевич...
И сынков боярских, княжеских, Константинушко, не обижай. Тебе, сын,
государством править, тебе на них, княжичей и боярычей, опираться. А коли ты
по младости, по неопытности их ныне изувечишь, каково тебе будет после
опираться на них, на увечных!
Слушал-слушал юный Константин, как матушка его журила и бранила, как
уму-разуму учила, как уговаривала смиренно жить, а потом вдруг спрашивает:
– Скажи-ка, матушка-царица, а есть ли у меня на свете родной батюшка? Все
как будто при отцах княжичи да боярычи, а я царевич – безотцовщина!..
Вспыхнула здесь, вознегодовала царица Азвяковна, молодая Елена
Александровна, ножкой топнула в туфельке атласной, руки в боки поставила:
– Что ты говоришь, неразумное дитя? О, горе мое!.. И не найдется смельчака
уста сии опечатать! Накличешь беду!.. Разве ты безотцовщина? Разве я не
говорила тебе про твоего царственного батюшку Саула Леванидовича, разве не
рассказывала были про походы его? Разве не под эти были ты маленький
засыпал? Пойди с глаз долой! Не могу больше видеть такого глупыша!..
Вздохнув, уходил Константин Саулович в свои терема. Затихал на время, образ
жизни смиренный вел. Но потом опять пробивалась силушка, выход находила.
Покоя царевичу не давала. И куражился Константинушка вновь над усатыми,
бородатыми, рукава им обрывал, тумаками одаривал щедро, проходу не давал.
Арбы больше не переворачивал, быков трехлетних в лоб не бил. Он другую
придумывал богатырскую забаву. В горы уходил и с вершин сталкивал камни. А
как и это наскучило, не долго тосковал. Подружился с оружейниками. Дни
напролет в кузницах пропадал. И отлили царевичу оружейники палицу медную, и
налили ее свинцом. Палица та была – в триста пудов весом. Вот уж забавушка
так забава! Очень даже весомая!.. Сшили доспехи ему из толстой кожи, по
краям тисненой; стальную кольчугу связали, отделали ее серебряными
пластинами. Выковали шлем, царский вензель на нем отчеканили. И много еще
чего смастерили: наколенники, налокотники, оплечья... Да перечислишь ли все
по науке латы! Не заскучает ли оттого читатель?
Оставил Константин детские забавы. Княжичи-боярычи вздохнули облегченно, по
улицам стали ходить смелей.
Еще пять лет прошло. Исполнилось царевичу двенадцать. Стал уж он н поле
ездить один, стал выкликать себе поединщика. Но не отзывался никто на клич
его, не находился смельчак, готовый свой шит подставить под удар палицы
трехсотпудовой. Пробовал богатырь выезжать и в степь половецкую.
Останавливал коня посреди желтого, выжженного солнцем поля и кричал на всю
Куманию:
– На бой выходи, недруг!..
Только ветер в ответ посвистывал. Не появлялся достойный противник. Или не
было такого средь молодых половецких ханов; а может, засидевшись на пирах,
чревоугодию предаваясь, цену забыли воинским играм?
Коня поворачивал, разочарованно вздыхая, царевич Константин, домой
возвращался.
Однажды, долгим отсутствием сына встревоженная, царица послала слуг поискать
его. И догнали слуги молодого царевича в половецкой земле, передали
повеление матушки вернуться. Нехотя вернулся Константин, пришел недовольный
в терема к царице, поклонился матушке.
А царица Азвяковна, молодая Елена Александровна по старинке принялась его
журить-бранить, принялась выговаривать, научать молодца смиренной жизни:
– Ты бы, чадо милое, Константинушко, перестал в поле ездить да поединщика
выкликать. Дело это опасное и совсем не царское. Твой удел, мой мальчик, в
золоте, в шелках ходить, довольствоваться властью, данною от Бога; свой
разум совершенствовать, отслеживать хитросплетения интриг – словом, учиться
править, а не скакать на потном иноходце, в железо облачась!.. Ты будешь
царь! Подумай, не смешно ль, когда слуга умнее господина? Те княжичи,
которых ты прежде обижал, уже премудрые мужи!.. Поверь, не дадут они дурню –
увечному разумом не дадут на себя опираться. Опору находит умнейший! А
поединщика, в латы закованного, да с головою звенящей, быстро скинут с
престола...
Однако мимо ушей пропускал Константин эти мудрые речи. Царевич о своем
думал. А о чем думал, о том и спрашивал, прост еще был:
– Ответь-ка мне, царица-матушка, а есть ли на свете у меня родной батюшка?
Все княжичи да боярычи, вельможичи и купчики как будто при отцах. Лишь я
царевич – безотцовщина!
Вознегодовала здесь царица Азвяковна, молодая Елена Александровна,
вспыхнула, брови изогнутые вскинулись вверх; топнула ножкой в туфельке
атласной, руки поставила в боки:
– Что ты говоришь, дитя неразумное? Безотцовщина ли ты? Да и слово такое от
кого мог слышать?..
Но настаивал царевич:
– Так где же батюшка мой?
Тут заплакала молодая царица, в подушки пуховые упала. Служанок выгнала.
Потом и отвечает:
– Не хотела тебе говорить. Отпускать от себя не хотела. Но, видно, придется.
Так и царь велел! Слушай же, неразумное чадо... – утерла слезы царица
платочком нежным кружевным, в зеркальце серебряное заглянула, припудрила
носик. – Отец твой великий царь Саул Леванидович поехал с дружиной в
Половецкую землю, в дальнюю орду. Угрозу решил отвести от нашего царства
Алыберского, вражескую силу у ее же очага подавить. Славен охотник, ищущий
волка в его логове, а не поджидающий у своей овчарни!.. Сказал царь Саул,
что вернется через двенадцать лет. Я же, любви супружеской полна, перед
отъездом государя зачала ребеночка. И царю о том говорила, и плакала: "На
кого ты меня, господин, оставляешь!" Но не задержали царя ни мои слова, ни
мои слезы. Не отменил он поход. Мне же велел: "Если Господь сына даст, ты
его выкорми, вырасти, воином воспитай и за мной пошли. А если дочь подарит
Господь, ты ее выкорми, вырасти и красавицу замуж отдай. Зятя же любимого за
мной пошли"... Вот и времечко пришло, минули двенадцать лет. Не хотела я
воспитывать воином тебя, да ты сам воином вырос, сам себя воспитал. Не
хотела про последний поход царя Саула рассказывать, да ты вытянул из меня.
Так хоть разок послушай мать: не езди в степь половецкую! Вот-вот вернется
царь; решит он дела государские и без твоей помощи. Ведь он царь от Бога!..
Поклонился Константин матушке в ножки:
– Спасибо, что не утаила веление государя!
Вышел из теремов царевич на красное крыльцо, крикнул конюхов-приспешников:
– Эй, кто там... Седлайте-ка скорее мне доброго коня –ня-иноходца, славного
бегуна. Седло черкасское, мое любимое седелышко несите... Да
пошевеливайтесь. Времени нет у меня, двенадцать лет уж минуло!.. Ремешки
потуже затягивайте. А в передней слуке и в задней слуке поставьте по
огненному камню сердолику. То не ради забавы, не ради моего удовольствия, а
ради дороженьки-пути, ради темной ночки осенней – чтобы видеть мне все под
копытами коня, чтобы ночка темная была как ясный день...
Плакала матушка-царица за его спиной. Да ничего поделать не могла. Разве
такого богатыря удержишь?
Только и видела царица, как ставил Константин ногу в стремя, только и
видела, как сын в седелышко садился. А уж как поехал, не видела: или быстро
поскакал Константинушко, или слезы туманом застлали царице глаза.
Ехал царевич по царству Алыберскому, пела душа, ликовало сердце. Прошло
время беспутных забав, настало время дел значимых!.. Рубежи переехал юный
Константин, поскакал по степи половецкой. Быстро скакал, под святые небеса
медную палицу подкидывал. А было в той палице литой триста пудов!
Развлекался царевич, время коротал в этой старинной игре: подкинет палицу –
поймает...
Раскинулось поле половецкое бесконечной скатертью. Солнце нещадно пекло.
Скоро притомился царевич, перестал палицу бросать. По сторонам озирался, но
не за что было уцепиться взгляду. Выжженная земля была белее неба, даже
слепила глаза. И ровная была, как стол. Не встречалось царевичу жилье, и
даже следы не попадались.
Кончился день, заночевал в поле юный Константин. Плащ на землю бросил, на
одну половину лег, другой укрылся. Под голову положил черкасское седло.
Коня-бегунца, за неимением коновязи, к руке привязал. Спал царевич спокойно.
Будто две звезды, ярко в степи горели огненно-красные сердолики...
Дням потерял счет царевич Константин. Велика оказалась земля Половецкая!
Пересохшие речки на пути попадались, небольшие холмы. Временами встречались
каменные истуканы боги-предки команов. Мрачные идолы смотрели на царевича
исподлобья. Губы их черные были от засохшей крови. Видно, жертвовали идолам
половцы, каменные губы мазали кровью.
Исхудал царевич, от солнца потемнело лицо. Мучимый жаждой, мечтал о простом
– о роднике прозрачном. И однажды приехал к такому роднику. Он в глубоком
журчал овражке. Сбежал в тот овражек Константин, припал пересохшими губами к
ручейку. Пил, пил, не мог оторваться! А как оторвался да голову поднял,
увидел над собой старика-комана. Был старик в овчины одет, мехом внутрь; на
голове его была белая, овчинная же, шапка. Из-под шапки выбивались длинные
седые волосы. А обувка – старые чувяки.
Улыбнулся старик:
– Кушать идем, богатырь!
Очень удивился Константин этому внезапному появлению старика, но еще более
удивился столь странному обычаю: имени не спрося, не узнав человека, звать
его на трапезу. Но пошел за стариком царевич.
За каменистым холмом увидел кочевье: две-три наспех сработанные мазанки и с
десяток войлочных шатров. Как подошли они к кочевью, из каждого шатра
появилась девушка. И были они одна другой прекрасней. Но млад был еще годами
царевич Константин: видел девушек, а красоты их не замечал.
Старик назвал Константину девушек по именам. Это были дочери его, которые
ждали женихов. Старшей исполнился двадцать один год, а младшей – в тот же
день двенадцать. Да все не заезжали к ним что-то женихи, где-то стороной
ездили.
Посадили девушки прекрасноликие царевича на ковер златотканый, приготовили
ему молочного ягненка, целый вечер потчевали. Улыбались красивые, в лицо ему
заглядывали. Но не действовали на царевича колдовские чары их карих глаз.
Слишком юн он был, не взволновалось его сердце и не вырвался из груди вздох.
Когда насытился Константин и откинулся на подушки, спросил его старик:
– Кто ты, юный витязь, и откуда?
Ответил Константин:
– Я воин простой из царства Алыберского. В степи заблудился, от войска
отстал. Скажи, старик, не проходило ль здесь войско царя Саула?
Задумался старик, прикрыл глаза, вспоминая. Потом ответил:
– Что-то слышал я про царя Саула лет двенадцать назад, но уж не помню что.
Давно было. Может, здесь и проезжал твой царь – тоже не могу сказать, ведь в
местах этих мы лишь второй год кочуем. Однако иное сказать могу: должно
быть, неслыханно богат и могущественен царь этот, если простые воины его в
серебро одеты, если рубахи их шиты жемчугами, а путь они себе в ночи
освещают огнеподобными сердоликами!..
Смутился тут царевич Константин, понял, что этому старику вывести его на
чистую воду ничего не стоит. И открылся царевич, рассказал, кто он на самом
деле.
Ему советовал старик:
– На север езжай! Там не так жестоко палит солнце. Там больше трав, там
больше кочевий. Узнаешь что-нибудь про царя.
Попрощался Константин с гостеприимными хозяевами. Старшей и младшей невестам
по камню-сердолику подарил и отправился в путь.
И правда, трех дней не прошло. Увидел царевич зеленые травы, в изобилии
увидел ручьев и речушек. На тучных лугах паслись бесчисленные отары овец.
Где-то в стороне табуны лошадей ходили – слышал Константин, как подрагивала
земля, слышал доносившееся издалека ржанье.
К многолюдным кочевьям подъезжал юный витязь. Косились половцы на палицу
его. В гостеприимстве не отказывали. Но про царя Саула ничего сказать не
могли, хмурились только. Показывали табунщики руками на север, говорили, что
про царя этого, быть может, разбойники знают.
И ехал к разбойникам в стан царевич – к разбойникам-бродникам явиться не
боялся. Палицей только поигрывал трехсотпудовой. В пещере огромной
разбойников отыскал. Про царя Саула у них выспрашивал, о поисках своих
рассказывал.
Усмехались разбойники, ножи о камни точили:
– У половцев про Саула спрашивал? Мало ты, видно, знаешь, братец!.. Тысячи
вдов половецких Саула-царя проклинают, лет уж двенадцать как слезы льют...
Бывалые люди, показывали разбойники ножами на север:
– Там на высокой горе под самым небосводом прозрачным церковь стоит. Возле
церкви камень зелен лежит. От того камня идут три дороги. Ты, младой
богатырь, если чину православного будешь, в церковь войди, как положено,
помолись. Потом и к камню подходи. Коли грамоте обучен, прочитаешь про
дорогу свою.
Поблагодарил Константин разбойников, пластину серебряную с плеча сорвал и
разбойникам-бродникам подарил.
Тотчас в путь отправился. Ехал три дня. Утром дня четвертого увидел царевич
гору высокую впереди да крутую, обрывистую. А на самой вершине церковь стоит
– белая-белая, будто из снега вылепленная. Маковка же золотая – словно
солнышко, горит. Полюбовался царевич на это благолепие и погнал коня по
узенькой тропинке в гору. Скоро на вершину поднял Константина конь
быстроногий. Спешился царевич. В церковку вошел. Никого из людей не
встретил. А как был он чину православного, то, как положено, трижды
перекрестился и Богу Вседержителю помолился.
Когда вышел из церкви, зелен камень увидел. А на камне будто надпись
какая-то – из под мха буковки проглядывают. Ободрал царевич мох, долго
прочитать не мог надпись, ибо слова были написаны очень давно, буковками
старинными с многими завитушками и хвостиками. Узор к узору складывался, и
через то узорочье мудреное весьма затруднительно угадывался смысл. Однако
усерден был юный Константин, от природы не глуп; в тайнописи хитрой
разобрался. И вот что он прочитал к полудню:
"Три дороги, витязь, пред тобой, три судьбы.
Но не обольщайся, почитая себя судьбы господином;
не задирай голову, величие храня.
Не ты себе судьбу выбираешь, ибо,
даже выбирая дорогу, – дорогу выбираешь не ты...
Правой дорогой поедешь – конь будет сыт,
ты же смерть найдешь;
левой поедешь дорогой – сам будешь сыт,
да коня потеряешь;
прямо поедешь – погубишь коня
и сам пропадешь напрасною смертью!"
Взъярилось тут сердце достохраброго витязя: полдня потерять, чтобы
прочитать это! И ни слова про великого царя Саула!..
Плечи могучие расправил юный Константин Саулович, палицу медную подкинул,
себе на колени положил. Поразмыслил, у камня сидя: сытому быть – коня
потерять, коня накормить самому помереть, а прямо поехать – обоим сгинуть.
Эх, запугивает кто-то молодца, эх, не хочет уступить прямую дорогу! "А
поеду-ка я прямо, разыщу кудесника-провидца? Да солому из башки повытрясу!"
Так решил млад богатырь, на коня-бегунца прыгнул и поскакал по средней из
дорог. Ехал, сильно палицу сжимал, мял могучей десницей медную рукоятку.
Распалялся воинственный пыл.
Часу не прошло, вынес его конь на берега стремительной реки. Не знал
царевич, что это была легендарная Смородина-река. И если б он начал искать
переправу, то спросить бы ему о ней было не у кого, ибо не жили здесь люди.
А если б он начал броду искать, то уж точно сгинул бы в быстрых студеных
водах вместе с конем, – как о том на камне прописано было.
Но ни так, ни эдак не вышло. Ни переправы, ни брода не искал царевич,
поскольку было ему не до того. Встретил он на берегу реки огромное войско
царя татарского Кунгура. Хитро татары через Смородину ту переправлялись.
Аркан плетеный крученый на другой берег перекинули, за иву плакучую
зацепили; по этому аркану и гоняли лодку туда-сюда, и не уносило их на камни
быстрое течение.
Подумал царевич Константин, уж не на татар ли этих намекал
кудесник-провидец, когда на придорожном камне надпись высекал? "Ну уж нет!
Не бывать по-твоему, кудесник! Поглядим еще, чья возьмет!"
Дерзкая мысль молнией сверкнула в голове царевича и распалила сердце. Полный
решимости, погнал Константин коня на татарское войско. Не устрашился один на
татар напасть достославный воин. Это была его первая битва! Отчаянная
битва...
Татары не сразу поняли, что произошло. Будто лев на них выпрыгнул из
непролазных кущ, лапами могучими стал воинов бить. Дрогнули вначале,
побежали кто куда, врассыпную бросились. Потом опомнились, оглянулись, а это
воин какой-то – безумный, должно быть, – на них кинулся. Повернулись к нему
татары лицом. Свирепости полны, к царевичу устремились, обнажили сабли. И
начался бой жестокий! Немилосердный бой! Бой неравный, ибо смелые витязи
татарские все комариками попискивали, царевича с разных сторон облепив, да
комариками и покусывали. А разъяренный Константин львом метался средь них,
палицей медной махал, свинцом налитою, – костедробилку на головы всадникам
опускал. Шлемы стальные сминал в лепешку, панцири крепкие разбивал, как
орехи, воинов нападающих валил, как траву. Стекала кровь по татарским
доспехам. С хрустом, внушающим ужас, ударяла палица в гущу витязей. Позвонки
от ударов наружу выскакивали, ребра ломались, как сухие веточки. И ничто не
брало молодого богатыря. Стрелы от него, как от каменного, отскакивали; у
копий обламывались кованые наконечники; сабельки, как сосульки, крошились.
Испугались тут татары. Думали, заговоренный этот воин! Или не человек он, а
злой дух!.. Начали в страхе метаться, туда-сюда бегать, будто оглашенные. А
куда бежать, не знали. Всюду доставала их жестокая палица. Звуки битвы
леденили кровь.
Бросились к переправе татарские воины, возле лодки теснились, устроили меж
собой кулачный бой – поскорее переправиться хотели. На их счастье опустилась
ночь.
Как на небе высыпали звезды, остановил сражение царевич Константин.
Огляделся удовлетворенно: хорошую расправу учинил! Отер палицу о траву и
пошел в поле спать.
А татары всю ночь переправлялись. Большое было войско, маленькая была лодка.
И половины к утру не переправилось. Едва восток порозовел, прибежали татары
к Кунгуру-царю, в ножки ему повалились:
– Повелитель! Кунгур Самородович! Вот-вот солнышко встанет. И появится опять
тот детина безумный, бешеный лев. Что нам делать, скажи? Как спастись? Ведь
к полудню от войска твоего половины не останется!..
Царь Кунгур перед тем на походном троне дремал под журчанье реки Смородины.
А как услышал жалобы воинов своих, ох, прогневался! С трона не поднимаясь,
затопал ножищами, толстыми пальцами в подлокотники впился. Веки разлепил, а
под ними не глаза – пылающие угли. Зарычал Кунгур Самородович, рот раскрыл,
– а там бездна.
Вот что сказал Кунгур-царь:
– Ах, вы олухи! С плачем недостойным к царю являться? Если с молодцем одним
справиться не способны, то зачем вам жить? Подыхайте хоть все! А останется
десяток воинов, что ж, хорошо! Я на них смогу положиться...
Но опять просили татары:
– Коли не думаешь о нас, повелитель, о себе подумай. Нас дубиной своей убьет
тот детина, и до тебя доберется: разорвет шатер, трон твой в землю вгонит, а
с тобой так поступит... Прости, говорить страшно!
Головы склоняли к земле татары, подхватывались:
– Слышим поступь тяжелую. Он идет уже! О! Что делать, господин?
И царь Кунгур начинал тревожиться. Известно, страх как болезнь заразная.
Тоже голову склонял татарский царь:
– Хорошо! Научу вас, торопитесь только, если жить хотите!.. Бронзовые
заступы берите, рвы копайте глубокие на берегу реки. Еще плетите корзины
высокие, наполняйте землей; палисады стройте дубовые и ставьте железные
надолбы. Если жизнь дорога, – справитесь!
Схватились татары за медные заступы, начали рвы копать; взялись плести
высокие корзины да набивать их землей, принялись дубовые палисады вбивать,
ставить железные надолбы.
Очень старались, жизнь была дорога. Солнышко еще не взошло, а у них уж
готовы были все укрепления. Спрятались татары за частоколы и надолбы –
только головы сверху торчали.
А царевич Константин Саулович молодой вместе с солнышком поднялся. Утренней
росой он умывался, белым полотном утирался. К востоку повернувшись, молитву
сотворил. Потом сел на коня и опять поехал к Смородине-реке – не закончил
вчера дела, не схватил за усы царя Кунгура, притеснителя людей.
Выехал на берег, от удивления широко раскрыл глаза царевич. Зияли темнотой
рвы глубокие, поднимались высокие валы, белели заостренные колья дубовые,
темнели надолбы. За частоколами татары сидели, посмеивались, а за ними трон
возвышался, на коем Кунгур-царь пробуждался: глазами-угольями страшно
вращал, грозный рык издавал, рот открывал – а там ни языка, ни глотки –
только черная бездна.
Погнал коня царевич Константин вдоль рвов, доехал до конца укреплений;
увидел – в реку они упираются. В другую сторону поскакал – и там укрепления
упираются в реку. Но заметил Константин узенький проход – в ладонь всего
шириной. Видно не хватило татарам одной минутки, чтобы дело закончить.
Понадеялись, что не заметит бреши богатырь. Этой-то бреши царевичу и
хватило. На полном скаку ворвался он в укрепленный стан и ну опять палицей
трехсотпудовой махать. Кто нерасторопен оказался, от царевича не убежал, тех
он всех прибил. Кто на укреплениях сидел, за частоколы держался, тех он всех
пооборвал да во рвы глубокие перекинул. К трону подъехал, Кунгура-царя за
усы ухватил, поднял над головою. Трон железный ударом палицы в землю вбил, а
царя вбил в землю за троном – глаза-уголья погасил, закопал бездну.
Остальных татар отпустил – не было уж ярости в сердце.
И поехал далее на север – там, слышал, город Углич стоит. Надеялся
Константин Саулович, что в том Угличе встретит отца.
Ехал царевич, по сторонам глядел, удивлялся. Совсем другие пошли места.
Давно уж кончилась желтая половецкая степь. Теперь все леса стояли кругом –
темные, непроходимые. Ели разлапистые до небес доставали, сосны высокие
облака цепляли. Дубы могучие напоминали горы. В кустарниках-подлесках и в
ясный день была ночь.
Константин с дороги не сворачивал, ибо даже если б и хотел, свернуть не смог
бы. Он и со своей силой богатырской не прошел бы в том лесу дюжины саженей.
У деревень и городков малых останавливался царевич, имя свое выкрикивал,
звал поединщика на бой, искал достойного богатыря-соперника. Но никто не
отзывался на его зов, никто не хотел голову подставить под палицу литую
трехсотпудовую.
Тем временем до Углича дошел слух, что едет к нему воин, богатырская стать,
и выкликает поединщика – очень побиться желает.
Хитрые угличане, судьбы не искушая, город свой Углич накрепко заперли, а
сами на стены белокаменные поднялись. Ждали заезжего богатыря.
Вот выехал Константин Саулович из леса, увидел гору перед собой, а на
горе белокаменный город. Над стенами увидел башенки деревянные, бревенчатые,
а над башенками – флажки. Из-за стен купола храмов выглядывают и кровли
теремов. Красив был город Углич, невольно залюбовался царевич.
Потом ближе подъехал, щит и палицу над головой поднял и прокричал громовым
голосом:
– На бой выходи, недруг!..
И ждал, смотрел на ворота, железом обитые. Однако не открылись ворота, не
принял вызова ни один угличский богатырь.
Еще ближе подъехал Константин Саулович молодой. Камень в ворота кинул. Едва
не повалились ворота, вздрогнули стены. Крикнул опять царевич:
– Выходи на бой! Эй, кто там!..
Тут выглянули со стен лукавые угличане, ответили:
– Ворота да стены не ломай, добрый человек, ибо может так статься, что свой
дом ты ломаешь... Послушай лучше, что скажем тебе! Нет у нас в городе ни
царя, ни короля, ни князя. Живем мы сами по себе, сообща правим. Но нужен
нам повелитель. Без повелителя нам никак! Из Орды звать хана не хотим.
Короля из Литвы нам тоже не надо. Нам бы православного царя!.. Вот ты бы,
мил человек, нам подошел, если был бы православного чину...
– А я и есть чина православного, – крикнул им царевич Константин, попался на
уловку витязь молодой, разумом зеленый, ибо когда-то не слушал матушку и в
хитросплетениях интриг не был искушен, верил людям на слово.
– Какая удача! – оживились на стенах угличане. – Нам тебя, дорогой богатырь,
видно, сам Бог послал! Подъезжай же поближе под стену белокаменную, мы
получше рассмотрим тебя. Не кривой ли ты, не рябой ли !.. Дело ведь важное:
царя себе выбираем!..
Молодешенек царевич Константин – великан великаном, да умом незрел, – как
просили его, под стены Углича подъехал, голову запрокинул, показывая лицо,–
оба глаза, дескать, на месте и нет безобразных оспин. А угличане
переглянулись между собой, как-то нехорошо усмехнулись да швырнули в
богатыря крюки-багры острые, захватистые. Подцепили за доспехи детинушку и
подняли на стену вместе с конем. Они ловкие были, эти угличане, не мешкали.
Руки царевичу за спину заломили, крепко связали шелковыми чембурами. А ноги
сковали цепью стальной; каждое звено у той цепи было с голову молодца.
Доспехи дорогие с царевича сорвали, отняли и рубаху, шитую жемчугами, дали
платье ветхое, калицкое – все в прорехах. И повели богатыря во глубокие
погреба, в сырую темницу. Палицу медную на стене городовой оставили, ибо
никто из угличан палицу ту поднять не мог.
Посадили в темницу Константина Сауловича. Створки дверей железных на погреб
бросили и засыпали их песком.
В тот же день царь Саул Леванидович мимо Углича проезжал с войском. Даней
много он с половцев собрал и с соседей их. Не хватало Саулу для даней
подвод. И десятников нескольких царь в город Углич послал. Как приехали
десятники, стали у горожан подводы спрашивать. Потом смотрят, на стене
городовой что-то медью начищенной блестит на солнышке.
Удивились десятники:
– Видать, богат город Углич, что уж башенки медные в нем!
Засмеялись угличане:
– То не башенки вовсе, а палица медная блестит. Молодца какого-то в погреба
посадили, палицу же еще не прибрали. Тяжела очень!..
Удивительно это показалось десятникам: не слабак, видно, тот молодец, что в
погреба угодил, коли палицу его всем городом поднять не могут!
Взяли в Угличе подвод десятники, сколько нужно, и к царю Саулу вернулись.
Удивительную новость сообщили: про палицу медную, про неизвестного богатыря.
Но махнул рукой Саул Леванидович:
– Не наше это дело – угличское. Пусть сами со своими молодцами разбираются.
И приказал царь грузить дани на подводы.
В этом же году возвращался царь Саул в царство свое Алыберское. Сто подвод с
собой вез даней-выходов. Недругов половцев железной рукой далеко отогнал за
двенадцать лет. Уж забыли в государстве его, как выглядят эти половцы.
Впрочем и царя едва не забыли – так долго он отсутствовал, так долго
весточки не слал.
Явился во дворец Саул Леванидович, переполоху наделал. Побежали по теремам
служки и служанки наводить порядок. Побежали кухарки к очагам угощения
готовить.
Царь могучий, слегка уж поседевший, поступью тяжелой поднялся на крыльцо.
Выбежали навстречу князья и бояре и прочие вельможи, пали к его ногам. Вышла
нарядная царица Азвяковна, молодая Елена Александровна, меж царедворцев
коленопреклоненных едва протиснулась.
Поклонился прекрасной царице Саул Леванидович, справился о здоровье. Всех
вельмож отпустил, а свиту свою, надежных рыцарей, отправил на отдых.
Оставшись с царицей наедине, говорит царь:
– Много уж лет прошло с тех пор, как расстались мы у третьего стана!..
Помнишь, государыня, ты говорила, что ребеночка зачала? Так расскажи же, не
томи, кого нам Бог послал: сына или дочь?
Заплакала тут царица, слезы крупные покатились по щекам:
– А разве не встретились вы? Разве сын не был с тобой?
Побледнел государь. Нечего ему было ответить.
Говорит царица Азвяковна, молодая Елена Александровна:
– Как уехал ты тогда, царь Саул Леванидович, родился у нас в срок сын.
Приходил поп с молитвою и нарек Константином младенца. Рос наш мальчик не по
дням, а по часам, и к двенадцати годам вырос богатырем могучим – друзьям на
радость, врагам на зависть. Церемоний Константин не любил дворцовых, ему
милее было в поле выезжать, с палицей медной там забавляться. А палица его
тяжела была – триста пудов. Ни один богатырь не мог поднять литую палицу
нашего сына...
Вспомнил тут царь рассказ десятников своих под Угличем – о молодце
неизвестном, дивном богатыре, и о палице медной трехсотпудовой, что блестела
на стене городовой. Больше не слушал Саул, что говорила царица. Слуг позвал,
велел рыцарей вернуть, в новый поход собираться.
Вышел на крыльцо красное, крикнул:
– Эй, конюхи-приспешники! Седлайте-ка живо мне доброго коня – того жеребца,
что стоял тридцать лет!
Бросились конюхи повеление исполнять, вывели во двор свежего коня. Царь еще
моргнуть не успел, а они уж коня оседлали и к крыльцу подвели.
Надел Саул Леванидович свои доспехи испытанные – слуги едва успели с них
пыль смахнуть, а царь уж опять в дорогу собирается. Саблю острую взял Саул и
крепкое копье; за ворота дворца выехал. А там войско стоит-поджидает –
тысяча бесстрашных витязей, каждый из которых в битве свирепому льву
подобен; а кони под ними – не кони, мифические единороги, для которых в бою
нет преград.
Быстро проехал царь Саул степь половецкую. У одного кочевья десять девушек
прекрасных встретил. Старшая и младшая невесты показали ему сердолики, про
красивого витязя рассказывали, который поехал на север. В других кочевьях
поведали царю половцы-табунщики про добродушного богатыря, который, гнева
вдов не убоясь, про уничтожителя коман, про царя Саула проклятого спрашивал.
Не догадывались табунщики, что этот самый царь сейчас и стоит перед ними;
отсылали его на север, к разбойникам – туда поехал богатырь.
Разбойники-бродники в пещерах точили о камни большие булатные ножи. Тоже не
знали Саула в лицо. А юного богатыря помнили. Усмехались разбойники, говоря
о Константине: без царя в голове царя ищет. Посылали на север Саула
Леванидовича, к церкви мраморной на горе. А оттуда поехал царь к легендарной
коварной реке Смородине и увидел побоище страшное на ее берегу, над которым
уже поусердствовать успели дикие звери и воронье.
Даже сам Саул Леванидович поразился тому, сколько тут бедных татар было
перебито. А земля вся перерыта была и колья дубовые на небо ощерились, и
стояли мрачные железные надолбы – проезжих пугали.
Повернул Саул Леванидович на Углич коня, дружинушке рукой махнул. Темным
лесом скакали, с дороги не сворачивали; по обочинам ели стеной стояли,
облака протыкали; а в дубравах над дорогой нависали ветви.
Нагнали купеческий обоз. Разговорился с извозчиками Саул-царь, воеводой
назвался Имяреком. Те извозчики были угличане. Городом своим хвастались, а
Саул им поддакивал, золотые монетки подбрасывал. Угличане и хвосты
распушили, в грудь себе стучали кулаками, говорили: "Мы, Углич, – из городов
город!" А царь Саул головой покачивал в сомнении, сказывал тем извозчикам,
что и посильнее видел города.
Тут и прорвало извозчиков:
– Посильнее – не посильнее, в том еще разобраться надо! А вот узником таким,
какой в Угличе томится, ни один город похвастаться не сможет!..
– Что за узник? – вскинул брови царь.
– А вот такой узник! – изобразили извозчики руками гору. – Чуть поболее
тебя, воевода Имярек. Но совсем юнец. А уж палица у него!.. Это своими очами
видеть надо! Как поймали того молодца да на стену втащили, он палицу-то
медную и выронил. Никто ее поднять не смог – даже с места сдвинуть. Так она
сердешная до сих пор на том месте лежит!..
И побожились извозчики, что говорят правду.
А Саул Леванидович давно уж понял, что рассказывают эти люди про
Константина, сына его. Ибо чей еще сын, как не царский, может быть таким
богатырем.
И сказал Саул этим извозчикам:
– Глупые вы, мужики! Дурни неразумные! И слушать вас тошно!.. Угличем
гордитесь, а дел худых угличских не замечаете. У доброго молодца
имени-отчества не спросили, поспешили в цепи заковать, в погреба бросить. Не
узнали и славы его! А между тем этот воин достославный Углич ваш от
разорения спас, ибо на реке Смородине разбил войско татарского царя
Кунгура...
Примолкли извозчики, потупили глаза.
А царь все не унимался:
– Вам бы в ножки этому молодцу кинуться, вам бы его благодарить, чествовать
и казной богатой жаловать. А вы, угличане, недотепы, стали вором его
называть и разбойником. И доспехи сорвали, и отняли дорогие одежды. Пир не
созвали, не посадили героя на почетное место, а бросили, как презренного
татя, в глубокие погреба, в сырую темницу.
– Кабы знать!. – разводили руками извозчики. – Да и не было нас там в ту
пору. Другие на стенах геройствовали угличане.
Скоро выехали из леса, увидели Углич на вершине горы. Но горожане,
приметившие чужую дружину на дороге, накрепко замкнули ворота. И своих
купцов и извозчиков не пустили.
Разъярился тогда Саул Леванидович, камень тяжелый в ворота кинул – едва те
ворота не сломал. От удара и стены дрогнули.
Крикнул царь:
– А-ну, Углич-град, высылай поединщика, коли ворота не открываешь!..
Но не показался из ворот поединщик. Испугались, видно, угличане могучего
седого воеводу.
Поднял Саул Леванидович второй камень, еще побольше первого. Только кинуть
его собрался, показались горожане на стенах. Просили витязя:
– Не бросай камень, добрый человек, не ломай ворота. Может, ворота наши еще
и тебе пригодятся...
– Что-то не пойму, угличане, к чему вы клоните? опустил камень Саул
Леванидович. – Я о ваших воротах и думать не думаю! Мне ворсинка из шкуры
моего коня много дороже, чем все ваши железные ворота.
Говорят ему со стен лукавые горожане:
– Ты послушай, что скажем тебе и не удивляйся! Город наш на весь мир
знаменит. Все в нем есть! И казна есть сокровищница с богатствами
несметными, и многие храмы с золотыми иконостасами, и терема дубовые,
листвиничные, и мраморные палаты, и всякая утварь, и скотина, и запасы
еды... Нет у нас только в городе повелителя: ни царя, ни короля, ни князя.
Живем мы сами по себе – как Бог на душу положит. Да трудно стало нам в
последние годы без повелителя. Всяк наперсток иголочку на свою сторону
тянет, а наперстков хватает у нас. И выходит в итоге разброд. Потому ищем мы
себе повелителя. Из Орды кликать хана не хотим. Из Литвы короля нам тоже не
надо. Нам хотелось бы православного царя!.. Вот такого, как ты, к примеру!
Мужа умудренного, седовласого, но и в силе телесной, чтоб бразды не дрожали
в немощных руках! Эх, кабы был ты, воевода, православного чину...
– А я и есть чина православного, – крикнул им Саул Леванидович и усмехнулся
в усы, подвох заподозрил.
– Ох, радость-то какая! Вот так удача! – зашумели на стенах хитрые угличане.
– Лучше тебя, богатырь, нам, ей-богу не сыскать! Подъезжай же поближе, мы
рассмотрим тебя: не кривой ли ты, не рябой ли!.. Не лапоть ведь выбираем, а
царя!..
Царь Саул Леванидович коня шпорами кольнул, под самую стену белокаменную
подъехал. Голову запрокинул, лица не прятал – оба глаза были на месте, ни
оспин, ни шрамов уродливых на щеках; взгляд у него цепкий, пронзительный,
нос орлиный, губы сжаты властно. Настоящий государь.
Но угличане лица его и не рассматривали, переглянулись меж собой, надменно
усмехнулись и со всех сил швырнули в царя крюки-багры, острые да
захватистые. Хотели за доспехи подцепить воина.
Ничего у них однако не вышло! Воитель опытный, ждал подвоха Саул. Как
полетели в него крюки и багры, он перехватил их да с такой силой дернул, что
угличане, державшие веревки, полетели вниз. А было их немало – два десятка.
По рукам и ногам их арканом связал Саул, в рядок положил.
Кричит угличанам – тем, что сидели наверху:
– Вы бы больше не лукавили, если город сохранить хотите! Вы бы выдали мне
узника своего, что томится в ваших погребах, и вернули бы ему одежду
нарядную, и доброго коня, и медную литую палицу.
Удивились угличане на стенах:
– Отродясь у нас такого не бывало! И сто лет уж пусты наши темницы... А
людей наших ты, воевода, отпусти. И давай полюбовно решим спор.
Нахмурился Саул Леванидович:
– Полюбовно – это хорошо! Только ответьте сначала, честной народ угличане,
что это у вас там на стене начищенной медью сверкает? Аж глаза режет!
– А это башенка медная блестит, – не задержались с ответом горожане. – Очень
богат Углич-град. Может уж позволить себе и башенки медные... А ты бы,
уважаемый, отпустил наших людей да ехал бы своей дорогой с миром.
Но и Саул Леванидович с ответом не медлил:
– Поеду, конечно! Дорога у меня дальняя. Но сначала стены ваши белокаменные
развалю, проверю темницы и на башенку медную полюбуюсь сблизи...
И опять царь Саул ухватил камень, приготовился в ворота его бросать.
Посовещались тут угличане на стенах, старцев своих собрали. Говорили с ними,
а сами на Саула и дружину его сверху поглядывали. Наконец крикнули:
– Ладно, воевода! Твоя взяла! Вернем тебе того дерзкого доброго молодца,
только стены не ломай и людей наших верни.
Побежали угличские стражники в глубокие погреба, отворяли сырую темницу,
доставали молодца. Вернули рубаху ему, шитую жемчугами, и доспехи дорогие
они вернули. Цепи сняли кузнецы – те, которые их надевали. Конюхи привели
коня. Жмурился с непривычки царевич Константин в солнечных лучах. А может,
не солнышко то было, может, медная палица сверкнула в глаза. Хлопнул в
ладоши царевич, оттого дрогнули стены и сорвалась сверху медная палица – да
прямо в руки богатырю.
Сел на коня Константин и в ворота выехал. А под Угличем уж поджидал его царь
Саул Леванидович. Глядел ласково, волновался. Свои черты в лице сына
угадывал.
Первый раз друг друга видели отец и сын, но сразу друг друга узнали.
Обнялись, поцеловались... У обоих сложение богатырское, царская стать,
благородная осанка...
Поскакали по дороге от стен Углича, путь им далекий предстоял – до царства
Алыберского.
Как приехали домой, царицу обрадовали – все закончилось хорошо. Пир устроили
на три дня. В первый день пили, ели, рассказывали были-небыли; во второй
день кушали, выпивали, пели песни, а на третий день наедались гости на
неделю вперед, было не до песен; когда солнышко красное закатилось, все
разъехались уважаемые гости. Остались во дворце только царь-отец, матушка
царица и царевич молодой. С тех пор они не расставались. А когда пришло
время Константину занять престол, у царства Алыберского не было повода
печалиться. Народ любил царевича, ибо тот всегда был открыт и отважен
сердцем и никогда не кривил душой. Со всеми же хитросплетениями интриг мог
поступать Константин, как некогда великий Александр поступил с Гордиевым
узлом, – разрубать их мечом. Сметливый от природы, он быстро научился
понимать закулисную игру царедворцев. Интриганов, особо преуспевших, он
быстро выявлял. Но милостив был Константин: он их не казнил, а высылал в
провинцию... А посему напрасно тревожилась когда-то за будущее сына царица
Азвяковна, молодая Елена Александровна.
 |